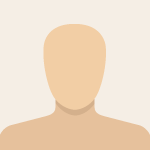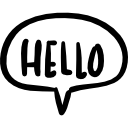Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- I
- Имамура Ко был не в духе. Он лежал навзничь на циновке, прикрыв лицо рукой, на запястье которой тикали часики. Ход секундной стрелки, обычно незаметный для носителя, обрёл теперь выпуклость, заслонив собой прочие звуки, доносившиеся через окно, открытое настежь. Имамура чего-то ждал, пока наручные часы с миниатюрной хризантемой на циферблате впивались настроечным колёсиком ему в лоб и наверняка уже оставили на нём полукруглую, с ямочкой, вмятину. Он ленился открывать глаза, ибо мог отчётливо представить и сам, что они видели: обжитую комнатушку с видом на речной канал, письменный стол, шкаф с двумя нарядами, одноместная кровать. Сюда не стыдно было пригласить коллег по университету или приличную девушку, но наедине эта комната однозначно намекала на то, что она съёмная и что при первом же сдвиге в укладе жизни её придётся покинуть. Впрочем, глаза он прикрыл скорее потому, что усердно думал, — он имел привычку думать вслепую, — но самый бурный розыгрыш мыслей в его голове уже прошёл, и сейчас там болтались одни безвольные ассоциации, обычно посещающие человека перед сном. Быть может, через несколько минут он и вправду уснул бы, но вдруг ощутил, что его рука начинала неметь. Имамура встрепенулся, сменил положение на сидячее, потёр вмятину на лбу и вновь повёл вперёд стан своих мыслей.
- Внизу шумели жители доходного дома господина Сато: собирались на обед. Поскольку столование в доме требовало плату в совершенно точное количество сэн, которое чудесным образом не зависело от колебания цен на бакалейном рынке, а доход Имамуры щекотал нервы своей непостоянностью, то от столования пришлось отказаться в пользу хороших или плохих заведений в зависимости от того, кто кормил его в данный момент. Сегодня — а это был летний день 193* года — его кормил известный французский писатель Анатоль Франс: Имамура получил на днях недурное вознаграждение за перевод нескольких его рассказов и даже отослал часть заработка сестре, которая вдовствовала на пару с матушкой в тихом домике над Аракавой. Переводческих работ на остаток лета не предвиделось, — в журнале был не сезон, — и потому Имамура бережливо хранил оставшийся гонорар в укромном месте и понемногу брал оттуда на дневные нужды. Это не значит, что у Имамуры каждый сэн был на счету, ведь он и сам не знал, сколько в точности у него оставалось.
- Имамура Ко был не в духе, но какой сердцевед мог назвать по имени ту грусть, что омрачала солнце одним своим присутствием? Кто являлся виновником этой вялотекущей и беспредметной тоски, чин которой был слишком мал, чтобы величаться хандрой или сплином, но которая всё-таки жалила гораздо сильнее, чем обыкновенная тоска погожего дня, посещающая тех, кому не с кем его разделить? В каких средневековых библиотеках хранится Summa Humorum, в которой обстоятельный монах изложил бы перечень всех известных печалей и методы излечения их? Быть может, то была тоска вечно текущего мира, которая настигала одиноких бездельников и временно выбрасывала их на берег из своего потока? Или, быть может, то была тоска возвышенных натур, что пребывали в добровольном изгнании из обыденной жизни? Или, быть может, причины не было вовсе? Ведь тоска — это обычное состояние думающего человека, как говорил кто-то когда-то. В конце концов, тоску мог наслать на нас предусмотрительный Бог, чтобы мы не сидели без дела. (Имамура не мог вспомнить откуда он взял цитату про «тоску думающего человека», и это раздражало его; он пообещал самому себе поинтересоваться на этот счёт у Учителя, так как вроде бы услышал эту цитату от него; в противном случае он обещал перерыть все библиотеки, пока не установит её происхождение; но вскоре он благополучно забыл о своих обещаниях). Имамура двигался дальше: «У каждого состояния имеется своё условие, и у каждого условия имеется, в свою очередь, своё условие...». Но ощутив, что этот путь ведёт в дурную бесконечность, Имамура резко подошёл к окну, решив обратиться к помощи пяти своих чувств. «Передо мной окно, в нём видится небо, наполненное облаками молочного цвета, на улице душно, наверное, вечером будет гроза» — само собой подумалось ему. Мысленно упрекнув себя за столь приземлённый образ мыслей, он насильно совершил мысленный вираж: «О небо, отчего ты так безразлично к нам, словно мы — соломенные псы, но в то же время сияешь так, будто хочешь, чтобы мы к тебе протянулись?». Убедившись в своём словесном даре и успокоившись на нём, Имамура повернул своё туловище набок и наткнулся ребром на оставленный дневник, заполненный бессонным бредом, который он незадолго до этого разбирал, проснувшись позже обычного. Золочённая перьевая ручка, вложенная в дневник (подарок университета «за блестящий перевод басен Лафонтена») вывела следующие слова: «Небо, Уран, немой свидетель мира, неподвижный и неизменный. По широкой груди твоей бегут облака, чресла твои опоясаны бурями. Что значат для тебя люди, живущие под твоей сенью?» И далее, в скобочках: «Возможно, что ничего не значат. Интересно, не то же самое ли думал граф Болконский, лёжа раненный под небесами Аустерлица?». Улыбнувшись, Имамура подумал, что этот пассаж можно было бы употребить в одном из рассказов, и тут же поймал себя на этой подлой мысли. Но это не помешало ему сделать ещё один поворот и убедить себя в том, что честный писатель имеет право быть подлым ровно настолько, насколько его труды должны быть напечатаны.
- Снизу раздался вопль, затем посыпалась брань, отголоски которой отвлекли Имамуру от его нездешних мыслей. Для жителей доходного дома эта застенная ругань давно стала привычной частью интерьера: господин Сато ссорился с дочерью на еженедельной основе. Выяснить причину их ссор представлялось трудным для подслушивающих, поскольку едва в их квартире повышался голос, как в бой шли самые заурядные упрёки, которые отец мог предъявить дочери, а дочь — отцу. Но Имамура достоверно знал, что за этими ссорами стояла неприятная история, всеми умалчиваемая, которая подогревала этот конфликт изнутри, и он был бы плохим писателем, если бы не попытался разузнать про неё поподробнее. Поговаривали, что дочка господина Сато, двадцатилетняя Сумико, в один осенний день сбежала из дома или была добровольно похищена; позже её видели на пристани с молодым человеком, то ли моряком, то ли скитальцем, который, судя по тому, как его малевала молва, был персонажем чрезвычайно пошлым, но ловким на язык, а такая комбинация, как известно, производит фатальное впечатление на неопытных девушек. Как бы то ни было, Имамуре не удалось установить хотя бы парочку достоверных черт этого похитителя, и он оставался для него полной загадкой, то есть идеальной мишенью для упражнения фантазии. Вскоре роман двух молодых людей, надо полагать, в силу своей ураганной силы, быстро развалился, и через неделю испарившаяся дочь вновь появилась на пороге дома — в первом часу ночи, в чужом платье и без гроша за душой. Никому доподлинно не известно, каких трудов ей стоило вернуться, зато о подробностях её водворения знал каждый: отец хотел отречься от блудной дочери, но мать уговорила его простить непокорное дитя; всё это сопровождалось дневными и ночными разбирательствами; видимо, Сатико обладала упрямым нравом, который не позволял ей склонить голову и признать вину. Несмотря на то, что прошла уже добрая половина года с той ночи, как Сумико вернулась в дом, вопли и ругань не прекращались: историю замяли, но её неразрешенность вновь напоминала о себе; семейная драма такого накала должна была закончиться чем-то скандальным, и, сузив свои змеиные глаза, Имамура пристально наблюдал за её ходом, ибо история семьи Сато казалась ему хорошим материалом если не для повести, то хотя бы для сентенциозного рассказа.
- Однако, доверяя законам жизни куда больше, чем своему воображению, Имамура попытался пролить свет на лакуны в истории прошлогоднего побега, чтобы затем состряпать из неё правдоподобную вещицу, добавив к ней от себя только красоту слога. Так Имамура решил обратиться напрямую к Сумико и, прежде чем приступить к личным вопросам, постарался войти в её доверие. По правде говоря, войти в её доверие не составило для него особого труда: господин Сато весьма уважительно относился к своему именитому постояльцу (однажды он вычитал в газете имя Имамуры, после чего тот сделался для него почти небожителем, так как всё-таки проживал в его доходном доме и не всегда исправно платил), а Сумико, которая и без того не раз засматривалась на единственного молодого человека во всем доме, весьма охотно пошла на сближение с ним, начавшееся в тот день, когда они одновременно вышли из дома и прошли вместе несколько кварталов. Продолжая говорить по правде, Имамуре даже пришлось несколько поступиться своей совестью и признаться ей в том, что тайком сочиняет стишки; все эти жертвы были принесены для того, чтобы создать в круглой головке Сумико интересное впечатление, и вскоре такой подход принёс плоды, ибо всего через неделю Имамура во время прогулки с ней как бы случайно забрёл на ту самую пристань, где история про побег пришлась обоим на язык. Опуская слишком личные подробности, Сумико поведала новому другу свою сторону случившегося, и в очередной раз действительность показала свою художественную посредственность: незнакомец оказался всего лишь бывшим постояльцем доходного дома, о котором все начисто забыли, кроме неё; не было также никаких умыканий и путешествий, так как любовники остановились в дешёвой гостинице на окраине города, где они, заложив всё ценное, что у них при себе имелось, уединились на кратчайшую неделю в их жизни; вдоволь насладившись друг другом, они разошлись, дав обещание никогда больше не встречаться. Вряд ли эта история стоила той шуточной клятвы, что пришлось принести Имамуре, а именно не впихивать услышанного в какой-нибудь роман, но ведь роман не есть рассказ; а кроме того, он не жалел потраченного времени ещё и потому, что Сумико оказалась довольно незаурядной натурой: из неё как будто целиком был выдавлен стыд, то ли как средство насолить отцу-тирану, то ли как природное качество свободолюбивой натуры. Он знал, что однажды она окажется на страницах его романа, но ещё не видел для неё подходящего применения; с реальной же Сумико он решил не торопить события, по крайней мере до тех пор, пока не съедет из доходного дома, ибо признавал интрижки уместными только в беллетристике.
- Но тут Имамура словно отпал от самого себя: он больше не мог думать о Сумико, поскольку ему, по неведомой цепочке мыслей, пришел на ум родной дом в Хоккайдо, это ветхое имение, которое пришлось покинуть после смерти отца. Отец Имамуры был мелким торговцем и беспокойным человеком, и беспокойным потому был весь дом: родители били посуду, кричали и допоздна спорили, плакали дети, из которых выжил только младший Имамура да его сестра, дышавшая всю жизнь на ладан. Бывало, отец после очередной ссоры накидывал пальто и пропадал до следующего утра, возвращаясь домой вусмерть пьяный; после попоек он спал глубоким сном до вечера, и только в это время в доме царил настоящий покой. Но однажды отец не вернулся, и полицейский, которого матушка радостно приняла за супруга из-за схожести прорезиненного пальто, сообщил, что господин Ко стал жертвой бродяги, который напал на него с ножом посреди ночи. Мальчик не слишком горевал по отцу, так как мало знал его; куда больше его тяготил траур в доме и слёзы матери. После смерти отца в доме поселилась необитаемая тишина. Но именно в это время в мальчике проснулась внимательность к себе и к своим мыслям. В школьные годы Имамура любил рисовать на полях тетради рожицы и придумывать сценки с их участием; в четырнадцать он принялся сочинять пьесы и так усердно проговаривал реплики, что мешал спать сестре за стеной. Дела ухудшались, семья продала имение и перебралась в столицу; в новой школе задавали вдвое больше прежнего, и потому Имамуре пришлось на время забыть про сочинительство.
- Однако, Имамура трепетно относился к своему детству, и потому желал посвятить ему свой дебютный роман; в написании его он мог бы если не переживать, то хотя бы с тоскою вспоминать детские годы. Но память представляла на этот счёт довольно скудный материал, да Имамура и сам понимал, что мало кому могло показаться интересным чье-то детство, и потому первоначальный замысел его разросся до большой семейной хроники, в которой бы рассказывалось о смене поколений, о конфликте отцов и детей, их страстей и убеждений, где члены аристократической, но приходившей в упадок семьи рождались и умирали, ссорились и примирялись, уходили и возвращались — и всё это на глазах домашнего слуги, который был взят в дом ещё подростком. Имамуре казалось, что на такой труд материал следует собирать десятилетиями (и отсюда, возможно, вытекал его интерес к чужим домашним ссорам), и даже, пожалуй, придётся самому жениться и завести детей, чтобы детально познать семейную жизнь. Незавершённость замысла все же не помешала Имамуре набросать конец этой эпопеи: слуга, ставший глубоким стариком, приходит с похорон последнего представителя семьи в их опустевшее, без пяти минут проданное имение и, севши за стол с экономкой выпить поминальное сакэ, произносит такую речь: «...Говорят, жизнь подобна несущейся реке. Но мне, глупому старику, кажется иначе: её поток есть мнимое, круговое движение, а там, с божественной высоты, наша жизнь предстаёт спокойным и гладким озером в глубине ущелья, защищённым от морских ветров. Какие угодно бури могут опрокидываться на него с небес, какие угодно лавины могут топить его берега, но все это пройдёт, и настанет день, когда поверхность вод вновь засияет, как зеркало. Подогрей мне, дорогая, моё сакэ, а то оно совсем остыло, пока я молол языком». Имамуре особенно нравилось сочинять концовки, на которые затем, как на рыбий скелет, наращивалось содержимое повестей. Но эта концовка так сильно пришлась ему по душе, что он удостоил самого себя наградой высшей степени: «Это что-то в духе Флобера». Лишь одно огорчало его: для такой замечательной концовки не хватало целого романа, а как много работы ему предстоит! Он не решался приступать к столь великому делу с ещё не окрепшими силами, и в то же время журил себя за малодушие, вспоминая пример Учителя, первый роман которого был написан примерно в том же возрасте, в котором находился сейчас Имамура. Учитель рассказывал, что закончил черновик своего «Нанкина» всего за восемь месяцев, считая с того дня, как он вернулся из Китая; то есть едва закончилась его нанкинская жизнь, как он тут же сел за её описание, а пролог так вообще был написан под свечой в одном из кабаков Шанхая, пока ждали судна. У него был необычайно быстрый и упорный темп письма, чего не скажешь об Имамуре, который не мог просидеть над рукописью больше двух часов без мигрени. Ведь не зря же говорят, думал он, что мозг — это своего рода мышца, поскольку мысль — одна из тяжелейших вещей в мире.
- Как неловкое признание перед самим собой, в уме Имамуры проскользнула догадка об истиной причине дурного расположения духа, в котором он пребывал с тех пор, как раскрыл глаза. Нынешний день, носивший название четверга, был днём, когда Имамура традиционно навещал Учителя, и, поскольку дурное расположение духа дало о себе знать именно в этот день, логично было предположить, что источником неудовольствия являлся Учитель. Конечно, и без этого банального силлогизма Имамура замечал, что в последнее время их отношения с Учителем как будто износились: к примеру, пропало то восхищение, с которым Имамура входил в его кабинет, едва слышно отодвинув створку; сошли на нет их разговоры о литературе, а если таковые и происходили, то обычно заканчивались спором и трудным молчанием после; в конце концов, даже работы своего ученика уже не слишком интересовали Учителя, и он уделял им ещё меньше внимания, чем пресыщенные журнальные критики. Все признаки того, что Учитель охладел к Имамуре, были налицо, и всё же Имамура не спешил прерывать связь с именитым писателем, видимо надеясь, что частичка его таланта перейдёт к нему. Ему было стыдно и неудобно находиться в этом положении, как неудобно находиться вынужденно в одной комнате с человеком, с которым только что поссорился, но в то же время он боялся разрешения, боялся потерять поддержку, наконец, боялся прекратить общение с таким исключительным человеком, как Учитель, и потому он решил пойти к нему на поклон и в этот четверг.
- Время было половина второго, а значит, время было скоро выходить: если Имамура поторопится, он сможет успеть на трехчасовой поезд. Кроме того, если он приедет пораньше, а не как обычно пятичасовым, то наверняка его пригласят на обед, а это позволит ему хотя бы сэкономить деньги на пищу и компенсирует цену на билет. Одобрив свой план и немного пожурив себя за расчетливость, Имамура достал из шкафа английскую тройку, в которой читал лекции в университете, но бант завязывать не стал, так как его принимали в доме Учителя почти за домашнего. В петлице пиджака висел осыпавшийся цветок — то был василёк, сиявший в прошлый визит газовым огоньком на тёмном лацкане, когда в доме учителя проходил литературный вечер. Его подарила ему госпожа Шинода, аккуратно отщипнув ногтем голубую головку от цветка в горшке и вставив его в пустую петлицу Имамуры. Он также вложил в нагрудный кармашек золотое перо, предварительно осушив его ввиду неприятного опыта, правда, с другим пером подешевле, и, слегка прикрыв дверь (ведь все его сокровища в данный момент были при нём), стал медленно спускаться вниз, тоскливо оглядывая свои заштопанные носки. Сойдя с лестницы, которая необходимым образом вела в общий зал, где столовался весь дом, Имамура не без удовольствия ощутил на себе внимание обедающих постояльцев, и, сделав на ходу небрежный поклон в их сторону, он перешёл в прихожую, где привычной чередой движений обул туфли, подхватил трость и поддел ею с вешалки шляпу. Однако, выйдя на солнечный свет, Имамура крякнул от досады: туфли изрядно запылились с последней прогулки, а поскольку у джентльмена оные должны были сверкать не хуже лат, он дал себе зарок натереть их гуталином на вокзале.
- II
- «Этот молодой господин, мимоходом разглядывавший себя в витринах, производил впечатление человека с достатком и заграничным вкусом; наверное, он был врач или юрист, как мог подумать случайный прохожий, поймавший на себе мгновенный, но пристальный взгляд этого восточного денди, элегантный костюм которого выдавал высокое положение в обществе. Однако, все это была наружность, и лишь немногие знали, что у нашего героя едва ли водились деньги на сей день; тёмная шерстяная тройка, щегольская трость, лакированные («кхе-кхе») ботинки — всё это было нажито с трудом, подарено или перекуплено и служило тому, чтобы создать мнимое впечатление. А впечатление в его деле значило все: подобно первому натиску, который решал исход всякого сражения, от его наряда и манер зависело, удастся ли нашему герою проникнуть в доверие своей жертвы; а потом, когда всем уже станет известно, что у того пройдохи не было ни гроша за душой, а все титулы его были фальшивы — дело уже будет сделано, а истина потеряет для него свой опасный вес».
- Так разошлась по пути на вокзал фантазия Имамуры, эта вольноотпущенница, которая жила не по карману своего сеньора; избалованная и не знавшая границ, она норовила всякий предлог превратить в сюжет, из всякой детали сотворить образ и каждую жизнь обратить в фикцию. На сей раз франтоватый наряд Имамуры послужил для него поводом для задумки авантюрной новеллы, главное лицо которой, благородный плут-француз, обольщал глупеньких жён богачей, с чьей помощью подчищал потом карманы их незадачливых супругов; несмотря на низость средств, цель его была высока: он мечтал отправиться в Южную Америку и на украденные деньги построить каучуковую плантацию; судьба, однако, отплатит ему жестоким уроком, сведя его с другой плутовкой — аргентинской ядовитой лягушкой, случайно наступив на которую, наш герой погибнет от страшных мук. Имамура подарил этому выдуманному персонажу своё лицо, и это было неслучайно; проницательный исследователь нового толка не преминул бы отметить, что таким образом автор и себя в какой-то степени считал за шарлатана. В самом деле, иногда к нему прицеплялось чувство, что Имамура своим внешним видом и положением доцента вводил всех в заблуждение по поводу своих достоинств, особенно же тем, что числился учеником известного писателя; это чувство собственной фальшивости особо резко обострилось в нем во время последнего вечера в доме учителя, когда начинающий писатель нашёл себя в кругу самых образованных и талантливых людей столицы. Однако и Учитель, и госпожа Шинода, и университетские коллеги, и его студенты — все они принимали Имамуру Ко за человека выдающегося ума и превозносили те его качества, которые он не находил в себе. Единственной ценностью, в которую он верил, — и поставил всю свою гордость на это, — являлось то трудное ремесло, о котором Имамура грезил с тех пор, как впервые открыл переводную книгу (то был «Дэвид Копперфильд»). Образ писателя именно европейского толка надолго засел в его воображении; он представлялся ему примерно в том виде, в каком был запечатлён на одной фотокарточке поэт Верлен: одиноко сидящий в углу кафешантана с нетронутой рюмкой абсента на столе, бородатый и плешивый, с небрежно накинутом на плечи шарфом, он был весь погружен в записную книжку и, несомненно, творил новый шедевр. Впервые Имамура отважился на сочинение собственной вещи в то время, когда его переводческая карьера только вставала на ноги: ему, как выпускнику факультета иностранных языков, предстояло перевести сборник рассказов Лоуренса, однако в предоставленном экземпляре имелось только семь рассказов, а договор с издательством предполагал все восемь. Обнаружив ошибку, Имамура хотел было позвонить редактору, но по пути к телефонной будке ему пришла в голову затея самому придумать содержание недостающего рассказа, который носил заманчивое название «Запах хризантемы». Повернув на полпути домой, он решил свою выдумку записать; когда же пришло время сдавать перевод в редактуру, Имамура, предварительно обдумав объяснение (мол, случайно спутал с готовым переводом из другого писателя), сунул свою работу в кипу отпечатанных листков и, дрожа нутром, стал ожидать реакции редактора. К большому удивлению Имамуры, рассказ его собственного сочинения не вызвал подозрений и спокойно прошёл в печать, и хотя читатели на время были лишены истинного «Запаха хризантемы», подложная его версия стала дебютом никому неизвестного автора. С тех пор было сделано несколько других переводов этого рассказа, да и сам Имамура обзавёлся наконец псевдонимом, но эта тайна, которую до сих пор никто не разгадал, вызывала на его лице ухмылку; ведь если никто не обнаружил разницы между ним и Лоуренсом, то это означало лишь одно: у Имамуры имелся писательский талант.
- Площадка загородных рейсов была пуста и знойна; только несколько работяг корчевали ломами угол платформы, и этот металлический стук каким-то необъяснимым образом говорил о лете, утверждал лето. Происходило это скорее всего потому, что лето, по мысли городских властей, было самым подходящим временем, чтобы вскрывать дороги и выворачивать на свет внутренности канализаций. Усевшись на скамью под тенью навеса, Имамура с тоской наблюдал тяжёлый труд рабочих, на чьих бронзовых плечах солнце играло почти так же, как на его вычищенных ботинках. Не столько сочувствие их труду занимало его, сколько сама участь этих бедолаг, которые били и били железными прутьями неподатливый камень до звона в ушах и дрожи в руках. Плоская жизнь, в которой необходимо чередовались труд и отдых, работа и дом, нужда и заработок, страшила Имамуру до дрожи костей, когда он слишком крепко над ней задумывался. Существование, состоящие только из человеческих тел и обыденных дел, казалось ему ужасным и требовало своего немедленного прекращения. Только третье измерение жизни, думал он, которое имело такое же отношение к первым двум, какое облако имеет к своей тени на земле, могло оправдать существование и придать жизни смысловой изгиб. Этим третьим измерением, за неимением лучшего слова, можно было бы назвать творчество, но взятое в самом широком смысле слова, как «творение из ничего». По мысли Имамуры, только внутренняя деятельность имела власть обезглавить все мучения невыносимой жизни, ведь когда трудишься внутренне, то всё снаружи сводится к досадной ругани соседей за стеной. Творение из ничего, хотя бы только в третьем измерении, представлялось ему спасительным даром, без которого двунаправленная жизнь ощущалась товарным составом, курсирующим между двумя точками. Иногда Имамуру посещала чудная мысль, что воображение, не связанное с действительностью никакими обязательствами, являлась подлинной вотчиной человека, а его телесное пребывание терпелось постольку, поскольку дух всё же должен быть где-нибудь прописан. «Но разве духовное и телесное должны проживать за ширмой друг от друга? — вопрошал себя в эти минуты Имамура, — Разве между ними невозможно общение? Но телесное всегда мыслит против духовного, и духовное мыслит против телесного, так что рано или поздно эта вражда должна закончиться подчинением одного другому. Но если в лице этих работяг духовное было покорено ударами тяжёлых ломов, то во мне это сражение ещё не проиграно, да и никогда не может быть проиграно до конца, пока во мне теплится мысль, — Имамура сказал эти слова про себя тоном воодушевляющей надежды, но тут же из привычки противоречить самому себе, добавил, — но допустим, что духовное победит, и весь материальный мир будет подчинён его диктату; не обернётся ли это ещё пущим кошмаром? В конце концов, Ад был тоже придуман человеком», — тут Имамура почувствовал нужду подвесить размышление, как подвешивают резким многоточием рассказ, концовка которого не может быть дописана потому, что даже сам автор не способен вообразить её.
- Поезда всё ещё не было, а время никуда не шло; разглядывать, что попадётся на глаза, как он обычно это делал, было нечего: застывшие составы и сверкавшие пути утомили глаза, а рабочие ушли на обед, да в них и не осталось ничего неподмеченного. Хорошо было бы предаться какому-нибудь умному размышлению, но в голову на такой жаре лезла одна дребедень. Имамура уже давно убедился, что его разум не способен начать ход мыслей, но мог только пропускать их сквозь себя; подобно составам, они иногда проезжали через его вокзал, и на время их стоянки можно было попытаться произвести их опись, но ныне, как и на городском вокзале, его поезд все не шёл. До прихода рейса оставалось минут десять, и этот промежуток остался бы мучительно незаполненным для Имамуры, если бы ему не подвернулась торговка цветами, которая черт знает зачем вышла с лотком на пустую платформу. Поскольку Имамура являлся для неё единственным возможным покупателем, торговка, бережно прикрыв товар платком от проходящего мимо грузового поезда, медленно шла к Имамуре, который был уже готов сам ринуться ей навстречу, настолько он был заинтригован. Предупредительно пристав со скамьи, когда тень торговки, более тёмная, чем тень навеса, вклинилась чёрным на серое, Имамура коснулся пальцем своей канотьерки и с обходительной улыбкой поинтересовался о цене. А там за сущие гроши предлагались цветы на все случаи жизни: торговка со знанием дела объяснила, что те подойдут для украшения дома, те хороши для садоводства, а вот эти бутоны наверняка взволнуют любое женское сердце. Цветы же, сами по себе довольно чахлые, нисколько не выделялись на фоне друг друга, пока взгляд Имамуры не упал на пышный и относительно незатасканный розовый пучок, который томился в углу деревянной коробки. Оплатив покупку тремя новыми монетами, на которых тоже был изображён неведомый цветок, Имамура уселся обратно на скамью и принялся изучать то творение природы, которе, как бы безумно это ни звучало, перешло теперь в его владение. Но самое смешное заключалось в том, что Имамура не знал имени этого цветка; торговка ушла далеко, а приставать за объяснением было не к кому. Имамуре даже несколько досаждал тот факт, что растение вполне комфортно обходилось без имени, и никак нельзя было его установить, а без этого цветок как будто и не принадлежал ему. Тут он вспомнил об одной сказке, в которой рассказывалось о том, как рыбак однажды подслушал разговор двух озёрных божков, которые соседствовали, или вернее сказать, переливались друг в друга; эти двое не поделили какую-то знатную рыбёшку, и в перепалке один из них громко выкрикнул имя второго, которое и достигло слуха рыбака, а как известно, знать истинное, а не народное имя божества означало иметь над ним власть. В конце этой истории порядок вещей был восстановлен, а недалёкий рыбак был наказан за свою жадность, но сама мысль, что имя привязывает вещь к человеку, всегда казалась Имамуре любопытной, и неспроста, ведь всякий писатель орудует именами и имеет власть связывать и развязывать всё, что он посчитает нужным, но не на земле и не на небе, а только в воображении. Имелось ли у этого цветка истинное имя, не то научно-латинское, которое и выговорить-то сложно, не то что запомнить, а матерински-подлинное, каким его, быть может, ласково назвал сам Бог, когда давал жизнь этому созданьицу? Как бы то ни было, Имамура ощущал нужду знать и вульгарное имя этого соцветия. Наверное, — снова взялся он за подсчёт своих богатств, — было бы не слишком расточительно выделить небольшую сумму на покупку ботанического атласа, ведь тогда все неказистые «деревья» и «ракитники» на страницах его книг запестрят звонкими видовыми именами. Какой-нибудь индекс растений наверняка имелся и у госпожи Шинода, а она, между прочими её достоинствами, являлась большим знатоком ботаники и держала в пристройке небольшой парник.
- Тут Имамура вновь вспомнил о вечере в доме Учителя, на который он был впервые приглашён. Причиной для приглашения послужило, надо полагать, его положение ученика; Учитель наверняка решил, что молодому человеку полезно будет завести знакомство с видными деятелями культуры, которые входили в его круг общения. Произошло же ровно обратное, и Имамура, видимо, стеснявшийся лишний раз открывать рот при наставнике, не только не принял участия в обсуждении нового движения в литературе, которое носило вздорное название «Я-рассказ», но и удалился в самый разгар его, выразив желание осмотреть ботаническую коллекцию госпожи Шинода. С большим пониманием отнесясь к просьбе своего гостя, хозяйка отвела Имамуру в парник, где под шум барабанившего по стеклянному навесу дождя принялась показывать ему различные диковинки, привезённые ею из последнего путешествия по Бирме. Об одной из таких диковинок, носившей интересное название Torricellia angulata, Имамура заметил про себя, что никогда не смог бы отличить её от тыквенного куста. Неимоверно сопрев под пиджаком, но не смея снять его, Имамура тщательно обходил этажерки с клумбами, напоминавшими трибуны; под тусклым светом ламп все растения казались ему нагромождением зелёной массы, о которой ничего толком и не скажешь, и потому он с облегчением уцепился взглядом за голубоватый огонёк, мелькнувший посреди стручково-лапчатого однообразия. «Это Centauréa cyánus, или же попросту василёк, — сказала госпожа Шинода, — не самый редкий вид в наших краях, почти что сорняк; этого поселенца я случайно нашла у стены нашего дома и, сжалившись, посадила его здесь». И, заметив, что петлица на пиджаке Имамуры пустует, добавила: «Впрочем, это опасный сосед для моих воспитанников, и потому я дарю его вам», — она аккуратно вытащила цветок с узловатым корнем из горшка и отщипнула ногтем соцветие, — «давно хотела его убрать, но не могла найти повода». Имамура, вдев соцветие в петлю, посмотрелся в стеклянную створку теплицы, дождливая ночь за которой отразила эту голубую звезду на тёмном абрисе костюма; госпожа Шинода не замедлила тут же добавить: «Знаете ли, у англичан это растение носит забавное название «bachelor’s button» — по традиции, васильки на своей груди носят незамужние джентльмены, испытывающие чувства к даме, имя которой не называют. Конечно, я не знаю, имеется ли у вас дама сердца, господин Ко, но вам эта бутоньерка придаёт романтический вид».
- С удовольствием проиграв в памяти этот эпизод общения с обаятельной госпожой Шинода, Имамура вдел безымянный цветок, купленный им за гроши, во вновь пустующую петлицу и подошёл к платформе, куда уже подходил загородный поезд.
- III
- Утром прошёл дождь — и хотя в городе от него не осталось и следа, за городом всё пропиталось им и не успело испариться. Об этом говорила сырая трава на обочинах и промозглый запах аллеи, по которой Имамура медленно шёл, направляясь привычной дорогой к имению Шинода. Показались знакомые доски на облицовке каменного забора, которую Учитель всё намеревался подкрасить лично; но у него никак не доходили руки, и наверное, это шло доскам на пользу, так как их облезлость придавала наружности дома ещё не утраченный вид старины. Было свежо и тихо, шелестели и тёрлись друг о друга разросшиеся деревья, а солнечный свет, закалявший затылок, падал сквозь ситце листвы на дверцы окованных ворот, сырых ещё снизу, у земли. Имамура медлил перед ними, так как его охватило крайне чувствительное состояние, в котором кажется, что все предметы живы и что все полно богов, которых нельзя потревожить. Имамуре на секунду даже показалось, что вид этих старинных ворот составлял все, к чему сводилось в тот момент его существование; но где-то сверху пропищала ласточка, оцепенение сошло, и неуверенный в себе гость постучал кольцом о ворота. Раздался глухой шум. Калитку отпер старенький слуга, и увидев его, Имамура тотчас понял, с кого именно списал он лицо для главного персонажа своего будущего романа, о концовке которого он размышлял сегодня ранее. Слуга в имении Шинода работал один и менял свои обличья соответственно выбранной роли: в прошлый раз, на вечере, он мельтешил в молочного цвета пиджаке и в чёрных брюках; теперь его облачением служила грубая роба, из брюшного кармана которой торчали ручки секатора. Стянув перчатку с руки, покрытой старческими пятнами, он указал Имамуре на песчаную дорожку и молчаливо пригласил последовать за ним вдоль отцветших багрянников, которые то и дело цеплялись за рукава — видимо, за них и взялся этот многоликий садовод.
- Пройдя в гостиную, Имамура замер от удивления, ведь она была полна живых цветов, которые расположились, словно гости на вечере: некоторые сидели в широких вазах на стульях и на журнальном столике, другие сбились в кучку посередине комнаты, а иные уединились по стенам и углам. Имамура ещё раз оглядел приколотый цветок на своём лацкане и с грустью подумал о том, что он не произведёт никакого впечатления в такой блестящей компании. Поскольку нужно же было где-то присесть, он выбрал стоящее рядом с ним глубокое кресло, напоминавшее по конструкции шезлонг, из которого не так-то просто было выбраться, и, не долго думая, погрузился в него, ожидая, пока слуга доложит о его визите. Но вместо слуги пришла сама госпожа Шинода, и, с трудом преодолев глубину кресла, Имамура привстал, чтобы отвесить поклон. Госпожа на сей раз носила необычный наряд: вышитые цветочные гроздья сбегали по рукавам кимоно, а белоснежный воротник окаймлял её шею. В ответ на смущённый взгляд она объяснила, что сегодня отмечался один из полузабытых сельских праздников, приуроченных к концу сезона дождя; праздник уже не имел смысла для городских жителей, но напоминал госпоже о её счастливом детстве, проведённом на южном краю страны. А кроме того, она хотела вновь расселить свои цветы по комнатам, и для этого собрала их всех в гостиной, чтобы затем, когда Имаока (так звали слугу) закончит с садом, они вместе решили, куда лучше поместить самые светолюбивые виды.
- Госпожа Шинода казалась Имамуре идеальной женщиной. Если бы он задался целью сочинить безупречный женский портрет, то он, возможно, не без удивления обнаружил бы, что из-под его пера вышел почти буквальный слепок с этой обаятельной дамы. Он уважал в ней все: высокое происхождение, мягкий характер, он даже разделял её трогательную любовь ко всему старинному и традиционному, хоть и сам не слишком понимал в этом. Он завидовал Учителю, но не питал к нему вражды за это: он считал его достойным супругом для такой женщины. К тому же, этот юный поклонник где-то читал, что любовь, как правило, живёт до первого настоящего знакомства, и потому не пытался перейти черту приличия с госпожой Шинода даже в своих мечтаниях. Однако, здесь стоит упомянуть про одну маленькую, но замечательную деталь, которая всплывала в голове Имамуры всякий раз, хоть и в свёрнутом виде, когда он встречался с госпожой Шинода: в одной из своих ранних повестей, носившей название «Шестипалый кленовый лист», Учитель в довольно откровенных образах, согласно правившему тогда литературному вкусу к натуралистичности, описывал сцену половой близости с девушкой, напоминающей госпожу Шинода. Учитель и сам признавался, что эта повесть в каком-то плане была автобиографична, и потому Имамура, время от времени перечитывая эту волнующую сцену, получал странное удовольствие оттого, что он как будто тайком проникал в ту область жизни своей заветной женщины, доступ к которой был закрыт ему вовеки. Любопытно отметить, что всякий раз, когда эта сцена случайно приходила ему на ум в присутствии самой госпожи Шинода, то лицо Имамуры вмиг покрывалось густой краской.
- Об Учителе же можно сказать так, как однажды выразился о нем один коллега по ремеслу: «У него такой вид, словно он круглыми сутками размышляет о самоубийстве». В самом деле, многие люди, имевшие случай завести с ним знакомство, отзывались об Учителе как о человеке необычайно угрюмом и неприветливом. Он всегда имел тяжеловесный образ мыслей, если под тяжеловесностью подразумевать их серьёзность, а после того, как он принял христианство, то стал ещё более строг к себе и к людям. Кстати говоря, произошло это на сороковой год его жизни под влиянием нанкинских друзей, с которыми он познакомился во времена своего «китайского путешествия», предпринятого ещё юношей. Имамура не раз с грустью признавал, что такой шаг, каким бы душеспасительным он ни был, нанёс художественному гению Учителя непоправимый удар. Со страниц его книг исчезла былая жизнерадостность, а их автор как будто больше не признавал красоту телесных форм, которым в молодости он слагал гимны; для него само любование красками стало практически равно преступлению легкомыслия. Это находило отражение и в изменившихся пристрастиях: если раньше он считал «Анну Каренину» самым выдающимся произведением литературы, то теперь отдавал предпочтение «Воскресению», называя его «единственной в наше время вещью, написанной по делу»; в самом деле, отныне даже от его собственных книг веяло какой-то казематной спёртостью воздуха. Что же касается семейной жизни, то Имамура ни разу не замечал, чтобы Учитель проявлял нежность к своей супруге; их вообще редко можно было увидеть в одной комнате, и гостей обычно принимала одна госпожа, а многие и приходили только затем, чтобы пообщаться с этой умной и прекрасной женщиной; да и сложно представить себе человека, который по своему бы желанию пришел поговорить с Учителем: он незаметно заставлял каждого собеседника чувствовать себя так, словно он натворил чего-то плохого и должен немедленно в этом раскаяться.
- С должным сожалением госпожа Шинода сообщила, что Учитель был занят и не мог принять посетителя сию же минуту, но что она будет рада скрасить, насколько это было в её силах, его ожидание; после же, когда он обсудит с Учителем все свои дела, она ждёт их обоих на обед. Имамуру не могла не порадовать эта отсрочка встречи с Учителем, которая и так всегда была для него немного волнительной, а теперь ещё и приобрела неприятный оттенок. Вообще, Имамура не так часто бывал в «хороших» домах, и потому его представление о «хорошем» образе жизни почерпывалось в основном из романов. И хотя госпожу Шинода едва ли можно было причислить к высшему обществу, у неё имелись все шансы сойти за благородную особу для непривыкшего к бомонду глаза, чему способствовало не столько богатство её родителей и изысканность её вкусов, сколько безупречное воспитание. Каждая встреча с госпожой оставляла в Имамуре приятное впечатление, и после неё он часто задумывался над тем, что представляет из себя идеал аристократа. В понимании Имамуры, аристократизм определялся как предельная искусственность человека, его детальная отделка; «законченный» аристократ представлялся своего рода творческим шедевром, автор которого потратил немало сил на сочинение самого себя. При таком повороте мысли Имамуре не давал покоя один как бы приоткрывавшийся со скрипом момент, из-под которого поддувал извечный вопрос о назначении искусства: в самом деле, имеет ли смысл человеку вкладывать столько труда в совершенствование собственного образа? Не являлось ли это безумным расточительством, ведь, как известно, искусство должно продолжать жить после смерти творца и даже отдельно от него? Но единственное, что оставлял после себя такой «хорошо отделанный человек», было хорошее впечатление, которое имело почти такой же срок жизни, как муха-дрозофила. И потому от этих людей веяло презрением к вечности и полным безразличием к коллективной памяти людей; казалось, своим видом они говорили: «наслаждайтесь мною, пока я есть», и в самом деле, такие слова приличны скорее комете, нежели Солнцу, чьё сияние, во много раз превышающее мимолётный всполох на ночном небе, не воспринимается нами как нечто прекрасное ввиду своей обыденности. Чувствуя себя немного перебежчиком от мира вечного и постоянного, Имамуре хотелось воспевать мимолётную красоту госпожи, которую бессмысленно было пытаться запечатлеть, а следовало только пережить и тотчас же забыть об этом, дабы не искать её снова; он пытался усилием мысли бескорыстно впитать в себя все, что излучала госпожа Шинода: её прекрасный вид, её голос, её наряд, убранство её дома, разнообразие цветов, которыми она себя окружила. Но разве можно впитывать в себя, не запоминая?
- «Куда же подевался старый рояль?», — невольно подумал про себя Имамура, оглядывая гостиную, в которой он имел счастье находиться, — «Ведь он стоял здесь ещё на прошлом вечере». Догадываясь о причине его исчезновения и не смея расспрашивать об этом хозяйку, Имамура вернулся в выбранное им кресло, которое, как он вспомнил из её прошлых рассказов, подарил один старичок-драматург, который сам же и сидел в нем во время своих визитов — у него болела спина от жёстких спинок. Этот драматург, согласно портрету, составленному госпожой Шинода, представлял собой личность эксцентрическую; псевдоним, которым он венчал все свои произведения, начиная с самой первой юношеской пьесы, мог читаться как «мост, переброшенный через реку, отражающую лунный свет». Над своим последним творением, эпической драмой в двадцать восемь актов по мотивам эпохи Хейан, он работал денно и нощно вот уже десять с лишним лет; по его словам, magnum opus всей его жизни был уже практически завершён, и неторопливый драматург только вносил последние исправления. Что же касается его публикации, то его агент уже заключил договор с одним крупным издательством, согласно которому выпуск его драмы должен произойти на восьмой день после кончины автора. «По крайней мере, мне не придётся выслушивать болтовню критиков, — подшучивал он, — а вообще, это такой способ продления моей жизни: пока я не завершу манускрипт, смерть не смеет прийти за мной».
- Госпожа Шинода любила угощать своего друга подобными портретами гостей, видимо, имея в виду литературное пристрастие Имамуры. Рассказывала она и о предшественнике его на роль ученика: то был китайский поэт Бу Фу, одногодка Учителя, с которым тот познакомился во время своего пребывания на материке. Сойдясь на общей любви к литературе, они были вынуждены покинуть страну в двадцать седьмом году; вдвоём они переехали на острова и на некоторое время разошлись; одного из них позже настиг неожиданный успех, а второй так и остался прозябать в неизвестности; услышав о славе своего друга, Бу Фу решил вновь сблизиться с ним и попросил научить его искусству писания. Однако, несмотря на взаимное расположение, равный возраст помешал ученику воспринимать своего друга как наставника, и вскоре их союз распался. Бу Фу не перестал навещать своего бывшего учителя; оказалось, он сделался коммивояжёром, в совершенстве выучил японский язык и даже пытался писать на нём, но безуспешно. В свой последний визит, приуроченный к сорокалетию Учителя, он приподнес ему необычный подарок: самодельную деревянную коробку, доверху набитую нержавеющими гвоздями. На крышке было выгравировано послание: «Я желаю, чтобы ваши слова и впредь приколачивали к бумаге истину, подобно этим гвоздям». «Он был поэтом до кончиков ногтей, — завершила свой рассказ о нем госпожа Шинода, — жаль только не умел писать поэзию словами».
- К удивлению Имамуры приколотый цветок в его петлице, о котором он совсем забыл, привлёк внимание собеседницы: «Я вижу, вы приобрели вкус к бутоньеркам, мой друг. Далия, если я не ошибаюсь? Знаете ли вы, что она — представитель одной породы вместе с тем васильком, которым я украсила ваш костюм в прошлую нашу встречу? Удивительно, не правда ли, как они непохожи?»
- Имамура ответил на все эти вопросы неопределённым согласием.
- «Друг мой, если вы когда-нибудь потеряете интерес к литературе, я советую вам обратиться к биологии, — продолжала говорить госпожа Шинода, — и хотя все чудеса сейчас происходят под микроскопом, вы убедитесь, что фантазия природы имеет все шансы посоперничать с фантазией художника».
- Имамура в свою очередь поинтересовался, отчего госпоже Шинода самой не заняться литературой хотя бы ради досуга.
- «Я боюсь составить конкуренцию своему мужу, — её мягкая улыбка удлинилась, — к тому же, я совершенно не умею выдумывать конфликты, а насколько я слышала, именно из конфликтов должна состоять литература, чтобы считаться хорошей. Но я хочу поделиться с вами одним интересным соображением, которое я вычитала недавно у одного немецкого автора, думаю, оно будет вам понятно как никому другому: он говорит, что необходимо с опаской относиться к своим страстям, поскольку они способны затмить собою всю жизнь. Именно этого я и боюсь, мой друг, боюсь превратиться в одного из тех литераторов, что навещают моего мужа. Не поймите меня неправильно, я ни в коем случае не утверждаю, что все писатели наперечет чудаки: про вас, мой друг, я не рассказываю никому никаких анекдотов, поверьте. Но как бы вам это сказать, — на её лбу возникла вертикальная морщинка, — я нисколько не спорю с тем, что литература, как и любое другое искусство, имеет большое значение для человека, и то чудачество, которое обычно сопровождает гениальных людей, есть небольшая плата за гениальность. Однако же, — она придавила большим пальцем нижнюю губу и тут же его убрала, — однако мне кажется, что есть что-то необъяснимо родственное между гениальностью в написании книг и гениальностью в поступках, в манерах, в образе жизни в целом. Или, иначе говоря, гениальность в литературе должна цениться не ниже чем гениальность жизни. Ну и ну, кажется, я выдала афоризм в духе Уайльда, вам так не кажется?».
- Имамура признался, что и сам бы ни за что не отличил.
- Вошёл слуга и доложил, что Учитель ожидает Имамуру в своём кабинете. Попросив прощения у хозяйки и последовав за слугой, он бросил на неё прощальный взгляд, который, увы, остался незамеченным, — госпожа Шинода, сидя у края дивана, поглаживала пальчатый лист фикуса, который, казалось, сам упал ей на плечо. Имамура постарался с силой запечатлеть этот момент в своей памяти, чтобы снова вернуться к нему этим же вечером и возродить его на бумаге. Для чего? Разве он сам не говорил себе, что мгновение нельзя продлить, что не стоит труда возрождать в знаках и символах то, что уже прошло и погибло? Ведь такие слова, как «пропитанная солнцем гостиная» или «ласковая улыбка женщины» не способны передать то очарование, которому он поддался. Имеет ли образ такой прелестной женщины, как госпожа Шинода, восстановленный на бумаге, какую-то ценность сам по себе, или он неизменно должен служить какой-то высшей назидательной идее? Если бы только можно было написать такую чудесную книгу, в которой можно было бы уснуть, как уснул тот древний мудрец, которого нимфы сбили с дороги и усыпили на обочине на полвека. А затем вернуться в свой мир и увидеть, как изменился он, как постарели соседи, как изветшал ты сам, но как прекрасен был тот сон, который уже почти испарился из памяти. Имамура признался себе, что он готов был тысячу раз поклясться, что он променял бы все свои таланты на руку этой женщины, какой бы бестолковой эта сделка ни обернулась впоследствии.
- IV
- Наступая на половицы старого особняка, задерживаясь взглядом на потемневших балках и на выцветших створках, Имамура бессовестно представлял себе, что вся роскошь этого дома, вкупе с хозяйкой, принадлежит ему. Или, точнее сказать (и оправдать вместе с тем свою дерзость), ему хотелось представить себя на месте Учителя, вжиться в его тело, оставив за собой свою память, исключая при этом все парадоксы, которые могли бы из этого возникнуть. «Если бы я был не я, если бы я был самым прекрасным человеком на свете...», вспоминал Имамура слова одного романного персонажа, который в итоге, оставшись в финале самим собой, получил все желаемое, — но когда в романах писали правду? Рассуждая здраво, то есть холодно, связь между ним и госпожой не была уж столь невозможной: Учитель давно болел чем-то лёгочным, и вполне можно вообразить себе будущее, в котором он безвременно ушёл из жизни. Разумеется, Имамура не мог позволить себе желать скорой смерти Учителя, но разве не глупо будет сидеть сложа руки, если она произойдёт? Итак, дождливый полдень после похорон. Имамура, уже сложившийся к тому времени писатель, а это значило: в шерстяном пальто и с пышными усами, снимает сырую обувь в передней; тот же одряхлевший слуга, всегда догадывавшийся обо всём, но не подававший виду, проводит его в покои вдовы, разумеется, по её личному приглашению. Там он находит ее, в полутемной комнате с наглухо застланными шторами, укутанную в чёрные шелка, грустную и одинокую; лицо госпожи, несмотря на маленькие морщинки у губ, ещё свежо как прежде, и если приложить немного усилий, то можно восстановить пылавшую в них юность. Слуга удалился, они остались наедине, но Имамура не произносит ни слов утешений, ни безразличных напутствий, но просто сидит с нею рядом, как и подобает истинному другу. «Вы всегда были моим истинным другом, — так она и скажет, — и только благодаря вам в эти черные дни я не чувствую себя совершенно покинутой». Или даже так: «Теперь в моей жизни остался только один мужчина». Впрочем, это было бы слишком фривольно для вдовы. И вот он, не нарушая тишины, отерев платком намокшие от дождя усы и бороду, медленно нащупывает в полумраке будуара её руку, и, сказав заветное «прости», начинает покрывать её боязливыми поцелуями, а тройное трюмо за спиной молча отражает двойное преступление...
- «Ну и болван!», — пожурил себя Имамура и, переведя дух на более благородный образ мыслей, осторожно отворил седзи в кабинет господина Шинода.
- — А, Имамура, проходи пожалуйста, устраивайся поудобней, — сказал учитель, не отрывая глаз от письма: обыкновенная грубость необыкновенного человека.
- Входя в кабинет, Имамура по привычке бросил взгляд на распятие, которое по-прежнему висело в центре одной из стен и являлось её средоточием. Это распятие, весьма грубо вырезанное, вызывало у Имамуры отторжение: разве станет здравый человек держать у себя на стене, то есть постоянно на виду, изображение сына Бога, истекающего кровью, да ещё и распятого, как разбойник, на кресте? Это странное изображение, выполненное из лакированного дерева, было неокрашенным, за исключением четырёх маленьких ручейков ярко-алой крови, сочащейся из стигматов. Имамура не считал себя религиозным человеком, и потому втайне презирал Учителя за набожность: доходило до того, что Учитель запрещал называть себя учителем, объясняя это тем, что такой высокий титул имел право носить лишь один человек; правда, частенько он забывал об этом запрете.
- Оставив фигуру распятого богочеловека, Имамура подошел к своему излюбленному месту в кабинете учителя — к распахнутым седзи, которые выходили прямо в небольшой садик. Здесь можно было, свесив ноги в прохладную траву, сырую ещё до грани солнцепека (ещё одна улика прошедшего ночью дождя), насладиться, как это и следовало по задумке, видом зеленеющих кустов и деревьев, из гущи которых он узнавал лишь абрикос, но и тот уже давно отцвёл. Неподалёку находился пруд с карпами, вырытый в прошлом году, и ветерок доносил оттуда сырую свежесть. Имамура подумал, что, наверное, весьма удобно иметь под рукой такую природу в миниатюре, и что ему самому приходилось ехать на трамвае за город, чтобы ею насладиться, но с другой стороны, каждая такая поездка приносила ему много новых впечатлений, которые нельзя было заменить одомашненной природой. Но Учитель почти никогда не любовался садом. Надо заметить, что он был вообще чужд старомодному особняку, который принадлежал отцу госпожи; эту землю вместе с домом отняли у какого-то дремучего клана, и отдали за хорошую сумму разбогатевшему на рыбном промысле купцу. Прошлые хозяева дома, возведённого чуть более двух веков назад, очевидно, имели любовь к жизни в её погибающих формах. Учитель же, подобно поскользнувшемуся человеку, имел привычку смотреть только наверх и видеть во всем только «вечное и закономерное». Если этот сад не говорил ему о каком-то общем законе бытия, то он не существовал для него.
- Пока Имамура думал свои мысли, погрузившись взглядом в сад, по которому изредка пробегала прохладная судорога, за его спиной раздался щелчок футляра от очков и сдержанный ладонью зевок, что означало, что Учитель был готов уделить внимание своему ученику. Тот обернулся, но на его языке не нашлось ни единого слова, и дабы не показаться Учителю глупым, он бросил первое, что пришло ему на ум: он рассказал наставнику о концовке романа, которая родилась в его воображении этим утром. Выслушав задумку ученика, Учитель бесстрастно хмыкнул и сказал следующее:
- — Затея — это ещё полдела; написать такую вещь вряд ли тебе под силу.
- Сказав это, Учитель встал и принялся разминать ноги хождением по комнате. Имамура, ошарашенный грубостью ответа, приподнялся на месте.
- — Для того, чтобы написать такую большую книгу, — продолжал он, — нужна большая усидчивость, а ты сейчас вскочил так, словно я сказал тебе, что император умер.
- Имамура смутился и медленно, как бы противясь своей гордости, снова присел на пол. Завершив обход комнаты, Учитель также принял сидячую позу под распятием и принялся тщательно разминать пальцы ног; один только Бог знает, сколько он до этого просидел не вставая; вдруг, остановившись на правом мизинце, он снова заговорил:
- — Боги лепили человеческую душу десять дней, а человеческое тело — целое тысячелетие. Если я правильно уловил смысл этой пословицы, то труднее всего не придумать что-то, а воплотить это в жизнь. Подчас бывает трудно выразить словами то, что ты имеешь в виду, особенно если речь идёт о том, о чем ещё никто не говорил… Ты знаком с моим рассказом «Речные лилии»? Кажется, я написал его ещё до нашего знакомства.
- Имамура кивнул головой: это был один из его любимых рассказов.
- — Так вот, я открою тебе тайну: я написал его потому, что мне нравилось в то время наблюдать за речными лилиями. У меня совершенно не созерцательная натура; мне непонятно, как кто-то может залезать на высокие горы или пробираться сквозь джунгли для того, чтобы пособирать жучков или посмотреть на водопад; даже простое любование звёздами навевает скуку. Но эти белые цветки почему-то приковали к себе мой взгляд; они дрожали на поверхности канала и напоминали мне о чем-то, что я не смог в точности уловить. Впервые я увидел их в одном городском парке, у моста; скорее всего, их занесло туда течением, но через некоторое время они исчезли. Я подробно описал своей супруге внешний вид цветка и спросил, можно ли где-нибудь найти его и посадить в нашем пруду, на что она ответила, что я, должно быть, ошибся, поскольку белые нимфеи (так они называются по-научному) растут только в Европе. Конечно, я понимал, что речные лилии — это всего лишь мелочь, и посылать за ней через полсвета — занятие сумасбродное, однако совсем отдавать их небытию не хотелось, и потому я решил задержать их забвение, поместив эти цветы в рассказ, откуда их уже не унесёт ни одно течение. Сделать из мимолётного что-то вечное, вот чего мне хотелось. Однако, когда я взялся за перо, стало очевидно, что одним описанием цветка и всех сопутствующих ему подробностей чуда не свершишь; перечитав свою рукопись через несколько недель, я пришёл к выводу, что написанный мною пассаж не сможет вызвать ни у кого тех впечатлений, которые испытал я сам. Проблема таилась не столько в моих писательских способностях, сколько в принципиальной непередаваемости впечатлений: они настолько зависят от своих условий, что любая попытка восстановить их обречена на провал. Если цель литературы есть передача впечатлений, то она совершенно мнимая. Но я уже был слишком погружён в это дело, надо было что-то написать; поэтому я снабдил свой пассаж про речные лилии маленьким сюжетом, послал его в журнал, получил лестные отзывы и забыл об этой проблеме, решение которой потребовало бы от меня слишком большой затраты сил. Но каждый раз, когда я задумываюсь о целях своего труда, я прихожу в замешательство; со временем, однако, я привык к его бесцельности. Но я надеюсь, что объявится однажды мудрый человек и объяснит нам всем, зачем все это было.
- Голос Учителя затих, наступила тишина, требуемая самой тяжестью разговора; стали слышны звонкий смех госпожи Шинода и торопливый говорок слуги, однако трудно было определить, каким образом они проникали в кабинет, то ли из глубины дома, то ли снаружи, огибая дом; впрочем, решение этой случайной загадки нисколько не мешало Имамуре вновь порадоваться голосу хозяйки дома. По правде говоря, рассуждения Учителя показались ему не слишком понятными, однако его слова о том, что литература не может передавать впечатления, вызвали у Имамуры закономерный вопрос, который исподтишка уже возникал у него ранее: ради чего пишет он сам? Несомненно, поначалу он прельстился славой писателя, но позже к нему пришло понимание, что признание есть всего лишь побочный эффект, который имел к тому же отвратную привычку наступать только после смерти. Другим возможным кандидатом на роль смысла литературы являлось стремление просветить людей и улучшать их нравы, однако Имамура мало годился на роль проповедника, да и вряд ли имел право поучать других. Несомненно, что для решения этого вопроса требовались более основательные размышления, для которых у него никогда не находилось времени; во всяком случае, оставалась ещё одна зацепка, схватив которую, можно было надеяться расплести целиком всю пряжу: ведь выдумка, подобно сну, подсказывала человеку о возможности чего-то иного, чем всего лишь имелось в действительности, и жить без выдумки было так же тяжело, как питаться целыми днями одними рисовыми лепёшками.
- Заметив, что Учитель томился размышлением (он с большой вероятностью думал сейчас примерно о том же), Имамуре захотелось расшевелить его праздным вопросом:
- — Скажите, а почему вы выбрали для речных лилий именно такой сюжет, а не другой?
- — А что там было? Я подзабыл, — встрепенулся Учитель.
- — Если мне не изменяет память, то пруд, в которых они цвели, находился в палисаде какого-то захолустного полустанка, и когда однажды ночью в нем случился пожар и спалил весь сад, то наутро оказалось, что уцелели одни только лилии. Когда я прочитал этот рассказ, мне показалось, что смысл его заключался в неистребимости красоты, тогда как критики увидели в нём протест против модернизации страны.
- Учитель на миг обнажил зубы, что могло с равным правом означать как надменную улыбку, так и заглушённую вспышку ярости. Как бы то ни было, он объяснил:
- — Все это ерунда, и ничего подобного я не подразумевал. О речных лилиях тебе уже известно, а касаемо ночного пожара, здесь на руку сыграл случай. В один вечер, когда я тщетно подыскивал, какой бы сюжетец присочинить, у наших соседей загорелся сарай; я тогда подумал, перекинься огонь на наш двор, он бы с лёгкостью спалил весь сад, и от него бы ничего не осталось, кроме кувшинок, которые водились в пруду (их мне в утешение насадила супруга, но это вовсе не те лилии, о которых я тогда думал). Ну и, сложив одно с другим, я написал за полночи рассказ, который вызвал, судя по всему, много различных толкований, впрочем, каждое из которых оказалась одинаково безосновательным.
- Разговор между двумя забуксовал, надо было подтолкнуть его в другую сторону, и потому Имамура стыдливо поинтересовался:
- — Учитель, вы случайно не читали мой последний рассказ, недавно опубликованный в «Синситё»? Если помните, он назывался «Кучевые облака», однако я планирую поменять название и внести в него кое-какие изменения.
- — Да, читал. Довольно мило написано, — Учитель поджал губы, словно за ними готовилась бойкая шутка, — только его вполне могла написать даже моя супруга, обладай она твоим талантом и эрудицией.
- — Что это значит?
- — У тебя прекрасно подобраны слова, даны очень тонкие описания, но всё это вензеля, всё это не по существу… А существа как раз и не хватает.
- Учитель грустно хмыкнул под нос.
- — Я не совсем понимаю вас, господин Шинода.
- Господин Шинода вновь поднялся с татами. Казалось, он порывался уйти. Вместо того он пересёк кабинет, прошёл мимо Имамуры, сошёл со ступенек в сад и, став немного поодаль от собеседника, стал говорить себе под нос так, что надо было напрячь слух, чтобы разобрать его бормотание:
- — Я уже давно хотел поговорить с тобой об этом, но это неприятный разговор. Видишь ли, я думаю, что нам нужно прекратить общение. Я объясню почему. Мне не стоит быть твоим учителем, поскольку я, собственно говоря, ничему не могу тебя научить. Это не значит, что ты безнадёжен, просто я не могу помочь тебе. Я думаю, ты и сам видишь, что наши встречи с тобой сплошь состоят из одних пустых разговоров; всем хитростям письма ты обучился сам. И тебе не стоит быть моим учеником, поскольку у нас с тобой слишком разный взгляд на вещи, как бы пошло это ни звучало.
- Имамура молчал.
- — Я приготовил для тебя целую речь, но забыл её. Лучше я объясню тебе на примере, так проще. Представь себе: человек поздним вечером возвращается домой по захолустной улице. Вдруг из ближайшего переулка до него доносится шум: там происходит ограбление. Вор угрожает женщине ножом и хочет забрать её деньги, а может, что ещё похуже. Как должен поступить в этой ситуации человек? Я считаю, здесь есть только три варианта. Трусливый человек сделает вид, что ничего не видел, и поскорей уберётся; может быть, по пути он завернёт в полицию, но будет уже слишком поздно. Мужественный человек, ни секунды не размышляя, бросится на помощь женщине; неизвестно, чем закончится схватка, но важно другое: то, что он увидел зло и тут же попытался его прекратить. Казалось бы, все варианты на этом исчерпаны, но остался ещё один тип человека, к которому мы относим себя, мой милый друг. Человек-писатель, или говоря шире, человек-наблюдатель, если он в самом деле тот, за кого себя выдаёт, не станет ни помогать жертве, ни проходить мимо такого зрелища. Спрятавшись в тени, он будет с упоением наблюдать детали: сияние ножа, дрожь женских ног, жестокие угрозы. Затем, когда представление закончится или он слишком пресытится впечатлениями, человек-наблюдатель помчится домой, запрётся в своём кабинете и начнёт переводить сырые впечатления на бумагу.
- — Не верю, чтобы вы были таким человеком, господин Шинода, — тихо пробормотал Имамура.
- — А я не говорю, что такой человек существует; это чистый тип, от которого в каждом из нас примешано в той или иной мере. В тебе этой примеси меньше, чем во мне, и это хорошо; если даже из тебя не выйдет хорошего писателя, то из тебя по крайней мере выйдет хороший человек. Не в моих силах помочь тебе стать человеком. Зато вполне в моих силах помешать тебе стать таким же нравственным идиотом, как я. Посему мы должны прекратить общение.
- Господин Шинода повернулся к Имамуре спиной и принялся разминать поясницу, видимо, ожидая, что бывший ученик исчезнет сам собой. Над домом белели разводы перьевых облаков, беззвучно пролетали чайки; на земле, как и на небе, всё было хорошо, и только между двумя людьми совершалась ссора. Закончив зарядку, господин Шинода обернулся и застал Имамуру на прежнем месте; тяжело вздохнув, он вошёл обратно в кабинет, сел за письменный стол и начал разбирать бумажки. Имамура сидел с опущенной головой, недвижим; на стене висело распятие, а в глубине дома слышались шаги: готовился обед. Не было ни одной причины вновь заговорить, но Учитель продолжил:
- — Я больше не вижу смысла в писательстве, оно мне опротивело, оно кажется мне бесстыдным занятием. Мои книги не делают никого лучше, но только ещё больше развращают читателя, утончают его нервы, делают из нравственно здорового человека безвольного нытика. Эти сотни листков, что я измарал своими умствованиями, не значат ничего; если бы их не было, мир ничуть не изменился бы. Когда я впервые осознал свою вину, мне захотелось бросится в ближайшую книжную лавку, выкупить все книги за моим авторством и сжечь их; но это была невозможная задача: яд уже был выпущен, и я полностью осознаю свою ответственность за это. Я должен искупить свою вину. И то, что я отказываюсь быть твоим учителем, есть часть этого искупления, малейшая часть его. Я хочу написать большой труд, написать в последний раз, потому что ничего больше я не умею, написать искренне и ясно, где я объяснил бы переворот своего мышления, показал бы людям, что заставило меня бросить дело писателя, дабы совершить точно такой же переворот в их душах. Но я ещё не до конца окреп в своих мыслях, меня ещё слишком трясёт лихорадка свободы от всего чувственного, тонкого, нервного, чему я поклонялся раньше...
- Учитель поднял глаза, которые он все время держал на исписанных листках; Имамура стоял посередине кабинета так, будто ждал, пока тот окончит речь, прежде чем уйти; его лицо выражало полное безразличие. Сделав глубокий поклон, который Учитель принял быстрым кивком, Имамура вышел из кабинета. Госпожа Шинода, встреченная им по пути, поинтересовалась, останется ли он на обед, на что он ответил учтивым отказом.
- V
- За дверью дешёвой закусочной в портовом районе города шёл проливной дождь. Имамура стоял один на крыльце заведения и курил одолженную у товарища сигарету, едкий дым которой неохотно поднимался в сыром воздухе. Был девятый час вечера или около того, но темно скорее делалось из-за непогоды, и дальше двух столбов очертания домов мешались; прерывисто горели вдалеке огоньки судов на рейде; вода шумно хлестала из сточных труб и бежала поверх мостовой. Позади, за спиной, приоткрытая дверь выпускала наружу тепло и кислый запах маринованного мяса; там развлекалась компания выпивох, в которую каким-то образом затесался и сам Имамура, причём гуляла она последние два дня исключительно на его деньги. Они ещё не догадывались, что богатства его подходят к концу, и та последняя мелочь, которая должна была пойти на оплату харчей, наверное, выпала из его кармана, когда он поскользнулся, неловко спрыгнув с подножки трамвая. Копчик болел до сих пор, и эта ноющая боль напоминала о досадной пропаже. С этими опасными, но развесёлыми людьми Имамура прокутил несколько дней подряд, которые слились друг с другом в безобразную кашу. Последнее время Имамура завёл привычку просыпаться в самых неожиданных местах: в предместье города, под крышей полуразвалившегося сарая; в нелюдимых зарослях городского парка, накрытый продырявленным пальто, стянутым с неизвестного плеча; в постели незнакомой женщины, которая не знала ни слова на его языке; вдобавок от него дурно пахло, его одежда истрепалась, и ему было совестно являться в таком виде к себе, в доходный дом. Благо, все его сбережения были предусмотрительно спрятаны в другом месте, и каждый день, сделав несколько кругов для осторожности, Имамура открывал свой тайник и брал из него понемногу, дабы не потратить все за раз. Его тайник представлял собой прямоугольную шкатулку от подаренной ему когда-то перьевой ручки, полость которой приходилась под стать новеньким банкнотам, если сложить их пополам по длине; Имамура хранил её в конуре одной злобной собаки, которая охраняла задний вход чьей-то мясной лавки, однако старая подслеповатая сука принимала гостя за своего, поскольку он каждый раз приносил с собой вкусный гостинец. Несмотря на свою бережливость, его накопления вскоре истощились, и когда он с тоской вытряхнул со дна шкатулки последнюю горстку сэн, перед ним встала необходимость сделать решительный шаг. Речь, конечно же, шла о самоубийстве. Имамура обстоятельно отнёсся к решению этого вопроса, ведь уйти из жизни следовало со вкусом. Сначала был выбран способ — выбор пал на утопление, поскольку неудавшемуся писателю хотелось буквально скрыться от мира, и к тому же он не умел плавать. Затем было найдено место — Имамура счёл подходящим один невысокий мост над Аракавой, с которого, по легенде, связавшись друг с другом по рукам и ногам, сбрасывались несчастные любовники; к тому же, это место было недалеко от дома. В тот день, когда Имамура вернулся от господина Шинода домой, он вычистил свой английский костюм и написал стопку прощальных писем, скудность которой навевала грусть. Зачем-то ещё посчитал нужным составить отдельное большое письмо Университету, в котором попытался пространно и подробно объяснить свой поступок коллегам и ученикам, дабы не показаться в их глазах глупым, но затем выяснилось, что объяснить разумно свой уход из жизни было задачей невозможной. Оставалось только выбрать дату, и, решив напоследок попробовать жизнь с неизвестной стороны, он назначил свою смерть ровно через неделю, за которую взялся растратить все накопления, не отказывая себе ни в одной прихоти.
- Имамура с тоскою подумал, что хозяин закусочной вряд ли разрешит ему записать в долг, ведь помимо него там сидели ещё пять голодных оборванцев, которые наели на непростительную сумму. Лукаво улыбнувшись, он подумал, что лихо было бы докурить сейчас сигарету, сойти с лесенки в дождливую мглу и исчезнуть, а там его не сыщут даже собаки. Но загвоздка состояла в том, что ботинки он оставил под столом, а дырявые носки не смогут защитить его от холодной воды и скользких камней. Возвращаться за обувью было бы подозрительно, а теперь ему представился прекрасный шанс улизнуть: да и что ему ливень, когда предстояло утонуть в реке?
- Дождь оказался не таким холодным, как он ожидал. Имамура шёл босиком по камням мостовой, водяные потоки порою скрывали ноги до щиколоток. С его лица не сходила улыбка: как здорово он провёл этих болванов, которым теперь придётся платить за него или иметь дело с полицией! Имамура считал себя отныне самым свободным человеком на свете, и раз до смерти оставались считанные часы, он мог позволить себе любую шалость, и она несомненно сойдёт ему с рук. Однако, это возвышенное настроение мигом сменилось на ужас, когда за спиной раздался крик, огласивший его имя. Несомненно, это его товарищи пустились на розыск улизнувшего кошелька. Но под таким сильным ливнем нельзя было услышать и понять, как далеко они находились, как скоро они настигнут его. Они ведь вполне могли его избить. Имамура на секунду остановился, с гордостью решив, что он не будет скрываться от этих подонков, что ему нечего боятся побоев; но тут он тут же задней мыслью признался, что его никогда в жизни толком не избивали, и кто его знает, может быть это очень больно и неприятно, и потому пустился бежать.
- Имамура завернул в ближайший переулок, сделал крюк через попавшийся на глаза мост и бросился бежать по набережной канала, поминутно останавливаясь, чтобы перевести дыхание и проверить, не покажутся ли его преследователи. Но из темноты никто не появлялся. Успокаиваться все же было рано: дождь мог предательски скрыть их шаги, а темнота — их приближение. Впереди показался закрытый ресторан с крытой террасой: если спрятаться за её оградой и лечь на пол, то с улицы его совсем не увидать. Свернувшись калачиком между летними столиками, он с трепетом наблюдал сквозь щель в ограде участок тротуара, по которой вот-вот должна была промчаться шайка ищущих его пьянчуг. Но никто не появлялся. Сердце Имамуры мало-помалу вернулось в прежний ритм, ноги начали набираться холодом, тело — дрожать; оцепенение спало, он наконец пришел в себя. Осторожно оглядевшись поверх сырых перил, он привстал, снял стул с ближайшего столика и уселся в него, выдохнув так, словно сдерживал дыхание добрых пять минут. Дождь шёл на убыль; убрав с лица рукой прядь мокрых волос, он приметил на соседнем столике оставленную утреннюю газету и потянулся за ней. Имамура с усмешкой подумал, что со стороны он должен выглядеть как утопленник, который выбрался ночью из воды, чтобы узнать последние происшествия из земного мира.
- Центральный разворот посвящался событиям с фронта. «Страна ликует: императорские войска вошли в Нанкин». Впервые Имамура с необычайной остротой ощутил, сколь бессмысленно может звучать газетный заголовок. Разве встречал он за последнее время хоть одного человека, который бы искренне радовался победам армии Его Высочества? Несомненно, такие люди, которые считали, что война велась ради их удовольствия, должны были быть, но Имамура не встречал таких людей. Более того, он не мог найти такой радости в себе, ведь он ощущал себя больше всех воюющих стран, больше войны, больше всех людей, что были в неё втянуты; он был как будто целым миром, в огромном разнообразии которого этот эпизод мог с лёгкостью затеряться; и этот огромный мир должен был через пару часов потухнуть. А какой наглостью веяло от этой статьи! С какой дерзостью она трубила о вещах, которые не имели ни малейшего отношения к Имамуре! Разве кто-то спрашивал его, нужна ли ему эта китайская война, печётся ли он об интересах державы на континенте? Все эти мушиные копошения, вторгавшиеся в его жизнь и кричавшие о своей важности, настолько оскорбляли разум Имамуры, что он ещё больше утвердился в своём желании утопиться назло всему миру самозванцев. «Мир — это я, — самозабвенно думал он, — а не вы, не ваша война, не ваш грязный город, не эти псы и головорезы, не этот жалкий Имамура Ко, но Я и только Я!».
- Эта самоутверждающая ярость заставила его забыть о преследователях, и он преспокойно отправится прямиком к доходному дому господина Сато. Предстояло совершить последние приготовления, и они занимали его ум куда больше, чем сам факт того, что скоро ума этого не станет вовсе. Хотелось поскорее сбросить с себя износившееся тряпье, принять горячую ванну, надеть на себя чистенький костюм и чуть свет отправиться в путь, глядя с таинственной ухмылкой на каждого встречного. Он находил особую прелесть своей смерти в том, что необходимость её вытекала не из материальных причин, вроде нищеты или тяжёлой болезни, а целиком из уязвлённой гордости. Его смерть должна была стать художественным рывком, который сотрёт все значения с лица белого света. Имамура находил в себе большое призвание к искусству, но поскольку дорога к литературе была отныне для него закрыта, то ему не оставалось ничего другого, как сделать искусство из собственной жизни. Он уходил из мира не потому, что тот был к нему слишком жесток. Он уходил из мира для того, чтобы показать, как ничтожен был этот мир по сравнению с его собственным невозможным миром, который, быть может, был даже куда более жесток. Для третьего не оставалось места: либо он должен был слить эти два мира воедино, либо один из них подлежал уничтожению; если уничтожить вещественный мир не представлялось возможным, то долг велел ему уничтожить свой.
- Этот ход мыслей казался ему таким простым, таким ясным в эту пасмурную ночь, что, казалось, ничто не могло помешать ему в исполнении своего замысла: он как бы освещал ему дорогу. Правда, он предвидел уже предательство со стороны своей совести, но она на удивление молчала перед ним. Оставалось победить ещё лишь страх, решительная схватка с которым обещала состояться на мосту; к ней Имамура готовился особенно тщательно, собрав в своей голове арсенал из аргументов и горьких воспоминаний, которые должны были выиграть ему хотя бы мгновенный перевес, ведь для того, чтобы соскользнуть с перил, хватило бы и одной секунды.
- Доходный дом господина Сато спал первым сном. Поблагодарив небеса за их предвидение, Имамура нащупал ключ в подкладке куртки, куда он провалился через дырку в наружном кармане. Избежав таким образом самой позорной части своего замысла, он проник к себе в комнату никем из постояльцев не замеченный. Подождав полчаса для того, чтобы уж наверняка ни с кем не столкнуться по пути в общую ванную, он облачился в домашний халат и спустился босиком на первый этаж, где и находилось это помещение в голубую плитку. Раньше Имамуре приходила в голову мысль лечь в горячую ванну и вскрыть себе вены, как это делали римские мужи, но он отбросил её по той причине, что для постояльцев и в особенности для Сумико будет отвратителен вид человека, плавающего в собственной крови. Набирая воду в квадратную ванну, в которой вполне могли уместиться и двое, Имамура позволил себе мысль, что было бы неплохо перед уходом из жизни насладиться этой своенравной девушкой, которая так случайно пришла ему на ум. Эта мысль уже не раз приходила к нему в одинокую минуту, но он гнал её прочь от себя: в конце концов, иметь интимную связь с женщиной, которая тебе не интересует, было попросту безнравственно, думал он. Но однажды, и Имамура точно не знал, была ли это явь или тяжёлый сон, ему показалось, как кто-то мягко водил ногтями по его двери; ему даже почудилось, что знакомый женский голос звал его по имени, и ему стало жутко, как бывает жутко всякий раз, когда перед тобой и грехом не стоит ничего, кроме голого усилия не совершать его. В ту ночь он прикинулся спящим и долго ещё вслушивался в тишину, ткань которой рябилась от журчания канала под окном, с которым неразборчиво сливался звавший его голос; наутро он решил, что поступил разумно, поскольку иначе он рисковал вляпаться в очередную историю с хозяйской дочкой, что могло здорово подпортить его репутацию и зачать много слухов, а то и чего другого. Теперь, когда о будущем думать было нечего, а ценность настоящего становилась абсолютной, Имамура не смог придумать иного способа заманить Сумико к себе в ванную, кроме как позвать её силой мысли; в самом деле, он с минуту усердно глядел на дверь ванной комнаты, ожидая, что она сейчас вот-вот откроется; но ничего не вышло: наверное, виной тому была щеколда, на которую он её запер.
- Отмыв себя до кончиков ногтей и подровняв оные отчищенными от желтизны зубами, Имамура вернулся в свою комнату, освежённый и уставший превелико — сказывалась вчерашняя ночь, которую он провёл, дрейфуя со своей компанией по углам и переулкам. Рассвет ещё не брезжил, а покидать сей свет не увидев солнца не хотелось; закончив с земными делами, Имамура не знал, куда себя деть, и скуки ради зажёг свечу на письменном столе, любуясь её мерным угасанием — это должно было что-то значить, но у Имамуры не оставалось сил продолжить мысль. В ящичке стола лежали запечатанные письма известного содержания, предназначенные друзьям и родственникам Имамуры, и, вспомнив о них, он впервые задумался о том, что человек, покуда он жив, наживает себе свидетелей того, что он, как говорится, имел место. Из этого он умудрился даже сделать странный вывод: человек жил настолько, насколько об этом знали другие люди. Разумеется, Имамура не уходил из жизни для того, чтобы заставить своих близких пострадать и поплакать о нем, напротив, его очень беспокоило то страдание, которое он причинит своим уходом этим замечательным людям. Он хотел объяснить этим милым и сострадательным лицам, как тяжело ему было пребывать собой, как невозможно ему было жить и чувствовать, не имея силы воплотить себя, и с каждой жалобой ему становилось так обидно, что у него намокли глаза, и с каждой каплей утекало мужество. Имамура жалел, что сочинил эти письма второпях, не обдумав их содержание, не подобрав самые обходительные слова и наиболее безболезненные обороты, однако переписывать эти прощания было всё равно, что полоскать себя по старым ранам. Ведь это могло снова свести его к схватке с уже побеждённым упрёком: если покидать близких людей было так болезненно, то зачем же было их вовсе покидать? Кто принуждал его к нанесению этой взаимной боли? Но Имамура совершил тот же умственный манёвр, что спас его от противоречия с собой в прошлый раз: продолжать жить в услугу другим людям есть преступление против своей совести.
- Не желая пускаться в спор с соблазнами жизни, Имамура медленно натянул на себя выходной костюм, в кармане которого неожиданно забренчал дешёвый портсигар, купленный в лавке на вокзале в тот самый день, когда он перестал быть учеником и писателем. Внутри осталось три папиросочки, которые он неумело набил самым мягким табаком, что отыскался у табачника. Имамура с приятной тоской вспоминал, как он, в бреду добравшись до дома, когда солнце ещё только начинало клониться над городом и вовсю за окном щебетали дневные птицы, сидел за этим же столом и писал своё первое и самое проникновенное письмо из всех, что он когда-либо писал другому человеку, и назначалось оно госпоже Шинода. В нем он признавался, что его любовь к ней была «горячим потоком в холодной воде его жизни», и что её имя будет (или было? Имамура никак не мог определиться со временем, в каком следовало писать прощальные письма) единственным именем, которое он призовёт перед тем, как навеки соскользнуть в сырую пропасть, и проч., и проч. Имамура осознавал, что попадись это письмо чужому читателю, а того хуже, её супругу, то оно покажется ему жалким и вымученным кривлянием сопляка, пошлым повторением из слезливых романов, которые заменяли ему опыт действительной жизни. Но, вот странное дело, Имамура искренне чувствовал себя несчастным и испытывал нужду каким-то образом записать свои чувства, и его ли была вина, что для этого не придумали ещё новых, незаношенных слов? Закончив это письмо, он обнаружил, что в стакане с остывшим чаем плавало шесть окурков, а закупоренная комната наполнилась сизым дымом — он взялся за новую дурную привычку с невиданным остервенением. Жаль было оставлять эти ароматные папироски, а уж тем более топить их с собой, и, как всякий бережливый хозяин, Имамура придумал выкурить их одна за другой, погрузившись в вольтеровское кресло в гостиной, в котором ему никогда не удавалось посидеть, так как оно постоянно было занято.
- Уличный свет, придававший гостиной вид офорта, позволил Имамуре нащупать в ящичке журнального стола спички для камина; поднеся к зажатой в губах папироске огонёк на длинной палочке, он небрежно метнул её в камин, отчего тот через мгновение занялся слабым мерцанием — видимо, что-то в нем не догорело. Такая случайность пришлась по вкусу Имамуре, и он подкормил неокрепшее пламя вчерашней газетой, растерявшей за ночь весь смысл, а затем, усевшись в заветное кресло, затянулся сладким табаком с яблочным привкусом, привезённым из далёкого штата с волшебным и невыговариваемым именем Пенсильвания. Этот штат представлялся ему холмистым краем, где росла пшеница, сбегали по склонам ручьи и молчали вековые рощи — и пока эти пасторальные образы протекали перед его глазами, которые уже понемногу смыкались, Имамуру охватила жалость к чему-то животному в нём, что он собирался убить. Ощущение приятной усталости, подкреплённое полным желудком и вкусным ароматом табака, делали отталкивающей мысль о холодной воде, в которую предстояло погрузиться; ему было жалко не свой ум или накопленные знания, а своё молодое и здоровое тело, которое он утопит без всякой вины. Жалость Имамуры была самого банального толка: её подобие можно испытать, когда не можешь доесть кашу или когда нужно перетасовать разложенный пасьянс: жалко убирать со стола или выбрасывать то, что кто-то старательно приготовил. Тело, которое он так жестоко намеревался умертвить, казалось, ни о чём не подозревало: сердце спокойно сокращалось в грудной клетке, а взгляд всё темнел и сужался, отчего огонь в камельке казался дальним уличным светом, на который иногда засмотришься, когда ночью не спится…
- Едва не проспав собственное самоубийство, Имамура вздрогнул от громкого голоса, который раздался в соседней прихожей. Жгло пальцы на правой руке: папироса прогорела между ними, прежде чем упасть на ковёр и истлеть. В окнах брезжил первый свет, и осовелый Имамура смог, напрягши зрение, разглядеть источник шума: широкоплечая фигура заграждала дверной проём, обильно изливая на чью-то голову ругань. Нетрудно было угадать в этом гугнивом потоке брани голос достопочтенного хозяина, как и нетрудно было догадаться, кто вызвал на себя отчий гнев; Имамуре не раз приходилось невольно вдаваться в детали ночных спектаклей между отцом и дочерью вместо того, чтобы наслаждаться сном. На сей раз причиной недовольства стал поздний приход Сумико, которая, видимо, хотела без шуму пробраться к себе после ночного приключения. Отец вменял ей занятия блудом, пугал ночными маньяками и полицией, грозил запереть её в комнате или сдать в посудомойки, на что дочурка отвечала ненавистным взглядом и шмыганьем носа. Втиснувшись между косяком и потерявшим бдительность родителем, Сумико прорвалась в гостиную, однако тут же была с силой схвачена за предплечье, и семейная сцена продолжилась уже за спиной полусонного свидетеля, о котором эти двое даже не подозревали. Тем временем, вся эта ругань неслабо действовала на расхлёбанные недосыпом и попойками нервы Имамуры; ему было физически больно от этих резких колебаний воздуха под самым ухом, так что он был бы даже непротив отправить папашу кочергой на тот свет, только бы наступила тишина. Однако тут же Имамуру осенило вдохновение: как первые строчки стиха или расплывчатая задумка новеллы, ему в голову пришла, как ему показалось, гениальная развязка этой драмы, которая разом разрешила бы конфликт между собой и действующими лицами. Если бы не смерть, думал Имамура, если бы не легкомысленность оставшейся жизни, он бы не посмел, как не смели до него сказать и слова другие постояльцы, многие из которых изрядно задолжали господину Сато и побаивались его. Но теперь, на заре, когда всё было можно, Имамура в два скачка очутился перед упитанным лицом хозяина дома и украсил его мягкую щёку звонкой пощёчиной. Господин Сато застыл в изумлении, прикрыв ладонью оскорбленное место; его округлённые глаза и губы выражали ужас, словно он только что увидел призрак. Имамура, повернувшись на каблуке к Сумико, которая крикнула и в страхе отпрянула к дивану, просиял просвещённой улыбкой и подошёл к ней. Уголки её губ нервно моргнули в ответ: она узнала его. Несколькими днями ранее, памятуя о невыносимой обстановке в её семье, он хотел предложить ей двойное самоубийство. Но теперь, когда его планы на жизнь круто поменялись, он отчеканил нежным голосом совсем иное предложение:
- — Сумико, собирайся, мы съезжаем из этого дома.
- V
- В старой столице начиналась весна, капало с веток, и над землёй стоял тяжёлый пар. Человек с тросточкой и маленькой собакой прогуливался по лесной тропинке, идущей под откос, как он делал это каждое утро. Глаза его украшали резные морщины, но веки то и дело щурились, поскольку носить очки в такую погоду было непросто: они тут же покрывались пеленой от густого тумана. Пожилой господин был аккуратен и пунктуален. После утренней прогулки на голодный желудок он завтракал в своём кабинете строго в девять часов. В половину десятого следовало приступить к работе, то есть подготовить материал или подправить черновики; в одиннадцать тридцать он выходил из дома, чтобы в двенадцать войти в аудиторию и начать первое занятие, после которого, с половины третьего до пятнадцати минут четвёртого, обедал с коллегами в столовой. Так как он занимал должность заштатного преподавателя, то в день им читалось не более двух-трёх лекций, да и здоровье больше не позволяло; освободившись из университета чуть позже пяти, он пешком добирался до ближайшего кафетерия, где лакомился чашкой разбавленного кофе (не более одной, по совету врача) и сэндвичем. По чётным дням он покупал сэндвич с тунцом, а по нечётным — с беконом и жаренным яйцом, однако иногда ему приходилось брать одно и то же два дня подряд, и в этот день он чувствовал себя немножко хуже. В шесть он уже менял костюм на домашний и занимался привычными домашними делами: принимал гостей, если таковые навещали, читал письма, если таковые приходили, играл со слугой в шахматы, если приходил в голову хитрый способ разгромить старого прохвоста, или же садился за рукопись романа, если писатель чувствовал себя достаточно собранным. Как бы то ни было, строго в девять он поднимался в спальню, чтобы перед сном кого-нибудь почитать, будь это незнакомец, который не всегда доживал и до сотой страницы, или кто-нибудь из тёртых калачей. В одиннадцать вечера он запирал дверь и, встав на колени перед постелью, читал Христову молитву, не чувствуя при этом ничего особенного, а после почивал старческим сном до шести утра.
- Этот пасмурный апрельский день, конечно же, ничем не отличался от других: без трёх минут шесть слуга уже снимал с господина преподавателя чуть намокшие шляпу и пальто, а в кабинете стоял наготове тазик с тёплой водой, в которой хозяин любил распаривать ноги после дневной неволи замшевых туфель. Приступив к водной процедуре, он заметил, что на письменном столе лежало письмо. Поскольку стол находился в некотором удалении от оттоманки, сидя на которой грел ноги преподаватель, он попытался отгадать личность отправителя. Сразу отсеивались рекламные брошюры, поскольку он приказал слуге бросать их в огонь без сожаления; в пламя также регулярно отправлялся господин Ямаока, который непрестанно предлагал старому писателю приобрести что-нибудь из своей редчайшей книжной коллекции — с этим плутом ни одному приличному человеку не подобало вести дела. С большой вероятностью адресантом письма был скучный поклонник или кто-то из коллег — и преподавателя уже снедала преждевременная тоска от тех подобострастных оборотов, которыми насквозь будет пахнуть бумага. Хоть бы кто-нибудь написал ему простое человеческое письмо! — но простых человеческих отношений у него ни с кем не оставалось, а имелись одни ученики, читатели и слуги. Было разве что два-три человека, скорее мёртвых, чем живых, найти на столе письмо от которых было бы всё равно, что лицезреть чудо воскресения, однако верить в такие небылицы он уже давно перестал.
- Руки преподавателя задрожали, когда он прочёл на конверте имя отправителя — Имамура Ко.
- «Дорогой учитель! Признаю, что это наглость с моей стороны — писать вам спустя столько лет, когда вы, наверное, совсем обо мне забыли. Мне и самому не до конца ясна причина, побудившая написать вам. Возможно, виной тому вид из окна той гостиницы, в которой я остановился, ведь окно выходит на ту улицу, на которой вы некогда жили. Впрочем, сужу об этом только приблизительно, поскольку эту сторону города сравняли с землёй во время бомбардировок. Сейчас здесь милый жилой квартал с аккуратными домишками; на свежей траве дети валяют дурака и кидают мячик, скрипят качели, шумят молодые платаны — и кажется, что так было всегда, что все, что мы с вами помним, было где-то в другом месте, дорога к которому затерялась в непролазных зарослях. Я слышал, что во время войны вы переехали в Киото, и с тех пор не возвращались. Наверное, вы правильно делаете, что не приезжаете сюда: не так давно я и сам впервые за много лет очутился в Токио и был глубоко поражён его новым обликом. Множество мест, занимавших особое место в моём сердце, либо исчезли, либо перестали быть похожими на самих себя, и мне горько сознавать, что они, как и ваш прекрасный дом, существуют отныне только в моей памяти.
- Но не только ради старых времён пишу я вам, но и ради признания. Признаюсь, что в тот день, когда вы отказались от меня, я возненавидел вас. Однако позже я понял, что вы были правы: из меня не вышло писателя. Быть может, у меня был талант, но никогда не было серьёзной веры. Вы правильно сказали: «Я не могу запретить тебе заниматься литературой». Если бы я в самом деле был писателем, то ваш отказ не значил бы для меня ничего. Однако, он вверг меня в такое уныние, что я хотел свести счёты с жизнью.
- Человек не может переставить даже ногу, если сначала не поверит в это. До знакомства с вами мне казалось само собой разумеющимся, что мне суждено стать писателем. Мне не являлось во сне божество, мне не открыл это ни один оракул, но я сам внушил себе, что ничем другим, кроме литературы, я не буду заниматься. Когда же этот план сорвался, я решил, что у меня больше нет дел на этом свете, и я поспешил к следующему. Но теперь я понимаю, что человек становится кем-то или по случаю судьбы, или через твёрдую веру. Кто твердо решил, что станет мясником, тот станет мясником, и в этом его «предназначение», хотя, кто знает, может быть из него вышел бы отличный пианист. Своим отказом вы выбили меня из веры в то, что у меня есть предназначение, и я стал человеком без веры, я стал ничем. Говорят, что предназначение есть всего лишь иллюзия, но ведь и у иллюзии есть своя сила.
- Я не стану утомлять вас подробностями своей жизни, она неинтересна даже для меня. Расскажу лишь о том, что случилось после того, как я сбежал из города. Я знаю, что вы искали меня, мне рассказала об этом сестра, к которой вы заглядывали. Разумеется, покойный господин Сато, с доходного дома которого вы начали свои поиски, ничего вам не сообщил. Дело в том, что я сбежал вместе с его дочерью. Он не стал обращаться в полицию, видимо, такой исход вполне устраивал его. Денег у нас было немного, и мы остановились в небольшой деревушке в предместье Токио, сняли комнату у вдовы и зажили совместной жизнью. Мы не были счастливы; Сумико, — так звали мою сообщницу, — очень скоро начала скучать, и через некоторое время я обнаружил на столе записку, которую обычно оставляют после себя разочарованные любовники. Я уверен, что она вернулась домой, но я не стал её искать. До войны я некоторое время проработал сельским учителем, затем меня отправили солдатом в Бирму. Проведя в плену около года, я вернулся на острова и ощутил в себе чрезвычайную свободу, унылую и бессильную. Казалось, настало время оглянуться, сесть и составить хотя бы небольшой очерк ушедшей жизни. Но в ней не нашлось ничего, что мне хотелось бы оставить.
- На этом я заканчиваю своё письмо. Не оставляю обратного адреса, так как не тешу себя надеждой, что вам захотелось бы встретиться со мной. Право, это ни к чему. Желаю вам долгих лет и жизненных сил.
- Мне ужасно жаль по поводу Рейко.
- С уважением, некогда ваш ученик,
- Имамура Ко»
- Неожиданное письмо произвело на господина Шинода тяжёлое впечатление. Он медленно привстал из-за стола и зашаркал к шкафу; пёс по кличке Шапо, прозванный так за круглое пятно на макушке, тоскливо наблюдал за хозяином, не поднимая мордочки с оттоманки. В шкафу, в самом верхнем ящичке, лежал один аккуратно сложенный бумажный пакет, в котором хранились все фотографии Рейко, оставшиеся у него. Он спрятал их, потому что не хотел вспоминать. Несмотря на христианское мировоззрение, он думал поставить домашний алтарь или хотя бы повесить её фотографию, но лицо Рейко, заключённое в рамку, невыносимо напоминало ему о последних днях её жизни. Он убрал со стола все бумаги и писчие вещи, вскрыл ногтем пакет и вытряхнул его содержимое; фотокарточки разных форматов хлынули на стол, и вместе с ними хлынула боль. Их было не более дюжины; собранные наудачу и выпрошенные у родственников, они рассказывали жизнь прекрасной женщины; вот она ещё девочкой стоит рядом с мамой, наряженная в юкату по поводу летнего праздника; вот, уже девушка в строгом европейском платье, она задумчиво опирается на перила парохода во время её первого путешествия за границу; вот фотография, сделанная в ателье на её тридцатилетие, где она в традиционном кимоно и с набелённым лицом стоит на фоне нарисованного сада и держит в руках бумажный зонтик. Но у него не сохранилось ни единой фотографии, на которой бы их запечатлели вместе, и, если бы не память, то можно было бы подумать, что эта женщина никогда не знала его.
- Тогда ведь тоже стояла весна. Он забирался с биноклем на крышу своего дома, чтобы смотреть в сторону дымящегося города, не ушли ли самолёты. В пригороде не было бомбоубежищ, и он чувствовал себя беззащитным всякий раз, когда его слуха достигал далёкий стон сирены. Нужно было немедленно спасаться, но Рейко лежала тяжело больной, а фельдшер, которого господин Шинода выловил на улице и чуть ли не силком привёл в свой дом, заключил, что супруга не выдержит длительной тряски: ей был необходим покой. Поставленный в тупик, господин Шинода часами просиживал на крыше, представляя, как бомбардировщик, вдоволь налетавшись над городом, заметит его и сбросит ему на голову бомбу, сравняв с землёй всё, что было дорого ему в жизни. Как человек, господин Шинода не страшился смерти, но как писатель, он не мог допустить своей безвременной кончины. Во время войны он работал над своим философским трудом, который означал средоточие всех его духовных поисков; но теперь, когда враг подкрался к самой столице и жизнь висела на волоске, он не мог заставить себя написать хоть одну строчку, ведь на следующей день все могло сгореть в огне. Он думал, что если он умрёт сейчас, не дописав своей книги, то он не выполнит своего предназначения, погибнет недоделанным человеком. «Если бы Флобер не написал «Госпожу Бовари», был бы Флобер? — вопрошал он себя, — нет, не было бы Флобера».
- Эти и подобные им мысли очерчивали тот адский круг, внутри которого метался господин Шинода. Рейко, состояние которой не становилось ни лучше, ни хуже, наблюдала муки мужа с молчаливым страданием. Господин Шинода боялся показываться на глаза супруге, так как чувствовал, что она считала себя виноватой. Дни проходили один за другим в утомительном бездействии; казалось, не было смысла ни есть, ни спать, ни разговаривать друг с другом, когда они были все равно что мертвы. Ощущение было подобно тому, словно мчишься на бешеной скорости и боишься разбиться. Иногда страх отпускал его, вернее, господин Шинода становился к нему бесчувственен, и тогда он занимался обыденными делами, ходил узнавать новости к соседям, добывал пропитание, гулял один в лесу и думал застрелиться. В такие тихие дни он общался со своей супругой, которая лежала в постели с завязанными в узел волосами и закрытыми глазами. Он говорил с ней часами, иногда просто сидел рядом и старался не расплакаться, тихо наблюдая за тем, как угасает её жизнь. Света не было, слуга погиб, и на господина Шинода легли все домашние хлопоты. Иногда приходила соседка, старая женщина, дети которой воевали где-то на материке и уже несомненно сгинули; она помогала приглядывать за Рейко. Смеркалось поздно, и ночью, горячо помолившись перед сном, господин Шинода подолгу наблюдал в окно зарево полыхающей столицы. Жизнь тогда казалась ему невозможной, но она почему-то упрямо продолжалась, словно хотела ему ещё что-то показать. Когда он ложился спать, он оставлял окно открытым, чтобы до него мог донестись гул бомбардировщиков.
- В один день, ничем не отличимый от других, Рейко едва слышным голосом попросила его оставить её одну и уехать в безопасное место. Господин Шинода весь день бродил в лесу. Он очень много думал и призывал на помощь Бога. Он хотел, чтобы решение приняли за него. Он уже знал, что уедет, но не хотел признавать этого. В тот день он сполна ощутил, каким ничтожным и жалким он оказался по сравнению со своей супругой, которую все время считал поверхностной и глупой женщиной. Вся его гордость, вся нравственность его была враз смятенна животным страхом. Пережив одну из самых мучительных ночей в своей жизни, на следующий день он с глупой улыбкой на лице влез в порожний грузовик и навсегда покинул Токио. Через несколько дней зажигательная бомба упала на имение Шинода и уничтожила в огне Рейко и старую соседку.
- Книга написалась, выпустилась, вяло встретилась, забылась. Общество, переступив за порог войны, вошло в новую жизнь и наградила своего Учителя непроницаемой славой, сквозь которую не могло протиснуться ни одно новое слово. Многие удивлялись, что господин Шинода ещё жив. Удары, которые жизнь наносила ему один за другим, довели его до полной невосприимчивости. И он наконец обрёл смирение, которое так долго до этого искал умом и самодисциплиной. Временами он любовался своей судьбой, своей непонятостью, своими ранами, и ему думалось, что только ему, да ещё, может быть, десятку таких же исключительных людей, как он, довелось узнать жизнь с таких непривлекательных сторон. Но лицо Рейко, фотографии которой он разглядывал теперь под светом лампы в тёмном кабинете, обличало его мудрость.
- Складываясь год за годом, прошло десятилетие, потом ещё одно. Жизнь подарила господину Шинода ненужное долголетие. Уходили поколения его прежних читателей, критиков, коллег, а «живой классик» всё так же пребывал в своём скромном доме, читал лекции по истории литературы и каждое утро гулял с собакой. Несомненно, скоро умрёт и он, и через несколько лет кто-нибудь напишет о нём обстоятельное исследование, которое своими хвалебными словами сотрёт последние черты случившейся жизни. Но пока этого не произошло, можно ещё надеяться — о, не на себя, но на те прекрасные и могучие поколения, которые будут смотреть с презрением на такую беспомощную, но прекрасную вещь, как литература.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement