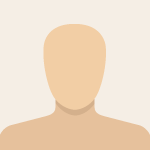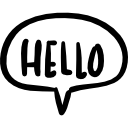Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Бецалель назывался художник, которому Моисей поручил сделать скинию и ковчег завета. В Библии есть очень подробное описание этих святынь, с точными цифрами размеров и перечислением материала. Чтобы всё это выстроить, с резными колоннами и крылатыми херувимами, Бецалель должен был быть великим искусником и иметь к своим услугам штат великолепно обученных подмастерьев, множество золота, дерево разнообразных дорогих сортов и редкостные заморские ткани. А происходило это в пустыне, куда израильский народ попал непосредственно из-под ярма фараонова; там, в Египте, он пас волов и лепил кирпичи, так что навыка в художествах не мог приобрести. Поэтому злые языки вроде Вельгаузена утверждают, будто никакого Бецалеля не было и никакой скинии собрания, а это просто жрецы позднейшего времени, уже после возвращения из вавилонского плена, сочинили для своих жреческих надобностей, причём точнейшим образом скопировали описание легендарной скинии с конкретного образца, бывшего пред их глазами, - со второго храма в Иерусалиме. Действительно, если вчитаться в описание скинии, то видишь, что она совсем не похожа на скинию, т.е. на палатку. Библия говорит о северной и южной стороне скинии - какая же там северная и южная сторона, когда речь идёт о шатре, который евреи в своих скитаниях переносили с места на место, поворачивая и так и этак? Ещё подозрительнее правило, чтобы жрецы, подымаясь по ступеням скинии, надевали, в интересах благопристойности, льняные штаны. Действительно, вряд ли у переносной палатки могли быть ступени, да притом такие высокие, чтобы мирянам снизу было видно, надеты ли у жреца под хламидою брюки, - а ещё труднее верится в то, чтобы в такой незапамятной древности уже существовало одно из величайших изобретений нашей цивилизации - штаны.
- По всем этим и ещё многим другим соображениям трудно, в самом деле, настаивать на том, что скиния в пустыне действительно существовала, а вместе с нею попадает некоторым образом под сомнение и сам художник Бецалель. Может быть, и его задним числом сочинили жрецы второго храма? Всё возможно. Злые языки идут ещё дальше и уверяют, что и Авраама никогда не было на свете, а в его образе просто олицетворено предание о каком-то племени - предках Израиля. И Исаак то же самое, и даже Иаков, молодчина Иаков, который умел всех водить за нос, то же самое, и самого Моисея, пожалуй, не было. "Пофилософствуй - ум вскружится".
- Поэтому, быть может, самое лучшее - не философствовать без особенной надобности. Образы легенды - всегда правда, более реальная, чем сама жизнь. В Уре Халдейском не велось метрических книг, и потому никогда не мы не найдём оффициальных доказательств бытия Авраама. А он всё-таки был, и жена его, Сарра, была, и он принимал и угощал ангелов божих. Всё это было, всё это правда - ещё лучшая, ещё высшая, ещё более глубокая правда, чем самая достоверная история, например, чем разрушение Иерусалима Титом Нечестивым, которого европейцы называют Pius. Всё это было. И Бецалель был!
- Так, не мудрствуя лукаво, посмотрел на дело создатель иерусалимской школы художественного ремесла, когда выбрал ей девизом легендарное имя древнего художника, единственного носителя пластической красоты среди кочевого племени, одичалого и огрубелого под плетью рабства. Был ли Бецалель? Была ли скиния? Да что же на свете реальнее, чем эта палатка, память о которой живёт тысячелетия из рода в род, так что и малое дитя подробно знает, сколько локтей она имела в длину и сколько золотых колец с каждой стороны? Кто и где в мире строил прочнее, чем художник Бецалель? Ничего не осталось от дворцов Вавилона, и придёт время, когда и пирамида Хеопса сравняется з землёю, но до творения Бецалеля не коснётся рука тысячелетий. Какой прекрасный девиз для школы!
- Чтобы оценить всё значение "Бецалеля", недостаточно побывать на выставке и осмотреть павильон. Надо ещё учесть и обстановку, среди которой зародилось и развивается это учреждение. "Бецалель" не просто школа художественного ремесла, это нечто большее, очаг социального эксперимента. Прежде всего - непосредственно, в экономическом смысле. "Бецалель" возник в такое время, когда в кругах, интересующихся колонизацией в Палестине, было много разговоров о том, что на одной земледельческой колонизации далеко не уедешь, а нужна также индустриализация края.
- И, действительно, сделано было несколько попыток в этом направлении. Учредители "Бецалеля"...<строка обрезана>...зацию. Они полагали, что Палестина ещё долго не сможет претендовать на роль серьёзного индустриального центра, попытки создать в ней еврейскими руками крупную обрабатывающую промышленность ещё надолго обречены бороться против таких неблагоприятных условий, как отсутствие рынка, некультурность окружающего населения, малочисленность еврейских рабочих, ничтожная пошлина на иностранный товар и т.д. Тем не менее, попытки эти необходимо продолжать, но не ограничиваться одним только типом: фабрикой или заводом. В такой стране, как Палестина, ещё только начинающей своё хозяйственное развитие и в то же время привлекающей к себе внимание всего культурного мира, очень полезной отраслью может оказаться художественная промышленность. Она даёт известный простор индивидуальности мастера и потому не так боится заморской фабричной конкуренции; она может обойтись без фабрик, ей достаточно мастерских, и потому она не требует таких непосильных затрат; вместе с тем это не простое ремесло, обреченное на узкий местный сбыт, - художественная промышленность может рассчитывать на самые широкие рынки.
- Так рассуждали учредители. Насколько всё это правильно, не здесь место обсуждать; во всяком случае, они создали свою школу, и жизнь подтвердила всю положительную часть их рассуждения. За короткое время изделия "Бецалеля" проложили себе путь к самым разнообразным рынкам Европы и Америки; если бы школа принимала все заказы, которые к ним поступают с разных сторон, ей пришлось бы в несколько раз превысить свои скромные оборотные ресурсы. Но, в конце концов, школе только 4-5 лет от роду, это только первый опыт; его развитие должно привести к тому, чтобы все еврейские поселения Палестины, как города, так и колонии, обзавелись постепенно филиалами "Бецалеля" и - ещё важнее - сетью частных ателье для коврового, кружевного, чеканного, филигранного и т.п. производств. Всё это несомненно может сыграть заметную роль в экономическом укреплении тамошнего еврейства.
- Но главная социальная роль "Бецалеля" не в этом. Надо знать, из какой среды он черпает своих воспитанников и как их перевоспитывает.
- Вряд ли многие из читателей знают, что такое "халука", а между тем это есть богатейшее из еврейских благотворительных учреждений, даже богаче, нежели "Иса" с её, кажется, 5 миллионами франков ежегодного дохода. "Халука" - это доброхотный сбор в пользу палестинских евреев, только не тех палестинских евреев, что устраивают колонии, фабрики и школы, а в пользу тех, что все свои дни проводит в синагоге или у стены Плача. Участвует в этом сборе вся ортодоксальная масса России, Галиции, Венгрии, Румынии, Марокко, Персии, но текут также деньги в Палестину из Берлина, Франкфурта-на-Майне, Лондона, Нью-Йорка, Иоганнесбурга. Главные деятели, конечно, простонародье, белнота: обычная форма даяния - вклад в "кружку рабби Менра Чудотворца", куда благочестивый бедняк опускает свой грош в радостные, печальные или просто памятные дни. Из этих грошей составляются грандиозные суммы, по которым, между прочим, можно судить о том, как велика молчаливая связь между сердцем еврейской массы и Палестиной. Инкассирование этого сбора производится самыми нелепыми способами: чаще всего посылаются из Палестины специальные сборщики ("мешуллахим"), которым выдаётся от раввинов письменнок полномочие открывать кружки и т.д. Сборщик имеет право израсходовать на свои путевые издержки известную часть сбора, очень солидную часть (иногда до половины). Контроля, конечно, никакого. И после всего этого в карманы палестинских ортодоксов ещё всё-таки попадает до четырёх миллионов франков в год. Нет никакого сомнения, что при правильной организации дела, т.е. если бы каждый грош попадал по назначению, "халука" давала бы вдвое или втрое больше...
- К сожалению, эти народные миллионы не только нелепо инкассируются, но и нелепо распределяются. Если бы они шли на поддержку культурных учреждений, еврейское население Палестины давно держало бы весь край в своих руках. Но этот золотой дождь почти весь попадает в руки частных лиц. "Халука" есть просто милостыня, подаяние, которым живут ортодоксальные евреи Иерусалима, Тивериады, Сафеда. Особенно в Иерусалиме есть множество семейств, которых единственный доход - "халука". Отцы и взрослые сыновья ничего не делают, ничему не учаться, даже священное писание и Талмуд плохо знают, зато строго блюдут все обряды в пище, одежде и молитвословии - и получают "халуку". За то и получают, что строго блюдут обряд внешнего благочестия. Распределение "халуки" зависит от комитетов, в которых главную роль играют духовные раввины; если какая-нибудь семья будет замечена в "эпикуреизме", ей тотчас урежут милостыню, а то и вовсе отнимут. Легко себе представить, какая прочная психология ханжества создаётся на этой почве.
- Сам по себе тип иерусалимского или тивериадского ортодокса представляет довольно много положительных черт, как раз таких, каких не достаёт евреям диаспоры. Прежде всего чувствуется в нём привычка к свободе - к такой полной свободе, о какой в Европе не имеем понятия. Он - самое свободное, самое независимое существо в мире. Турецкие власти для него не власти, потому что он, по большей части, числится в иностранном подданстве, следовательно, в силу международных договоров, подчинён юрисдикции "своего" консула. А со "своим" консулом у него опять-таки обычно нет никаких дел, никаких отношений, никаких точек соприкосновения. Кроме того, живёт он в очень узкой сфере и вообще очень редко попадает в тот круг жизни, где действует власть предержащая. Если случится тяжба с другим евреем, судится он у раввина. Столкновений с христианами или мусульманами у настоящего ортодокса быть не может: он их игнорирует, не замечает. Ему до сих пор кажется, будто все эти люди существуют только для того, чтобы было кому зажигать и тушить в пятницу вечером свечи. Его не интересуют вопросы большинства и меньшинства, которые так волнуют поселенцев нового типа - сионистов: для него Палестина будет еврейской страною не только тогда, когда в ней создастся еврейское большинство, - для него она уже сейчас еврейская страна, потому что он здесь и он себя чувствует как дома, а остальные люди, все эти арабы, греки, европейцы - это просто так, не в счёт. Курьёзная психология, но в сущности очень здоровая. У этих тунеядцев крепкие нервы, спокойная, уверенная походка, прямая спина и довольно жизнерадостный взгляд на жизнь, несмотря на рыдания у стены разрушенного храма. Это великолепный материал для переработки. Но пока, до переработки, это всё-таки тунеядцы, закоренелые и принципиальные.
- Вспоминаю свои беседы с одним юношей из этой среды, лет 16-ти. Было это в Тивериаде. Я посетил Тадмуд-Тору ашкеназийской общины. Преподавание, конечно, хуже скверного. Всё на жаргоне. Ученики старшего класса, проходившие талмудический трактат Баба-Батра, не в состоянии двух слов связать по древнееврейски. Меня особенно поразило отношение к Библии: педагоги не проходили с учениками ни пророков, ни даже Царств. И в самом Пятикнижии с особенным смаком налегали на законодательную и ритуальную часть, а исторические, эпические, поэтические главы проходили кое-как, с явным пренебрежением. Какой-то культ сухости духа, презрения к живой, полной жизни. Между тем мальчики, в грязно-белых вязаных колпачках, остроконечных (как немецкие карикатуры изображают головной убор Михеля), были все, как на подбор, румяные, весёлые, большей частью красивые. Один из них оказался сыном хозяина моего постоялого двора. Я его потом забрал на прогулку и разговорился. Вот его план будущей жизни. Через три-четыре года отец (здесь он краснеет) найдёт ему невесту. Невеста принесёт ему приданое, отец со своей стороны тоже кое-что даст; кроме того, он будет получать "халуку" - и засядет на всю жизнь в бет-гаммидраше р. Менра Чудотворца, что близ горячих источников, будет изучать (?) Гемару и жить припеваючи. Я спросил:
- - Неужели вам не хочется работать, изучать какое-нибудь ремесло?
- - Наши говорят, что ремесло - это "биттуль-Тора" (помеха изучению Торы).
- - А почему вы не говорите по древнееврейски? Смотрите, вся молодёжь в палестине говорит на этом языке, кроме вот таких, как вы.
- - Наши говорят, что порядочный еврей не должен говорить по-еврейски. Ребе сказал, что...
- - Чего ж вы остановились?
- - Ребе сказал: кто говорит по-еврейски? Выкресты говорят по-еврейски.
- Это было в Тивериаде. Там и "халуки" больше, и потому страх перед "эпикуреизмом" гораздо сильнее. Верхом "эпикуреизма" считается, конечно, светская наука, в особенности на еврейском языке, ибо как можно профанировать святой язык, преподавая на нём какую-то ботанику? Но почти таким же грехом считается изучение ремесла. И вот первую крупную брешь в этой среде пробил именно "Бецалель". Как это случилось, почему "Бецалель" в глазах иерусалимской ортодоксии менее греховен, чем хотя бы профессиональная школа Аллианса, это я бы затруднился объяснить. Может быть, потому, что художественное ремесло не производит на этих первобытных людей впечатления ремесла; может быть, они считают это занятие чем-то вроде баловства, из которого не выйдет серьёзной "помехи Торе", а между тем играючи можно зарабатывать деньги; может быть, влияет и то, что в "Бецалеле" по необходимости почти не уделяется времени общеобразовательным предметам. Во всяком случае, они мирятся с "Бецалелем", мирятся даже с древнееврейским языком, безраздельно царящим в этой школе. Когда будете на выставке смотреть ковры "Бецалеля", вникните в то, что эту ткань плели руки наследственно привыкшие чуждаться всякого труда; и тогда вы поймёте, что "Бецалель" - не просто школа, "Бецалель" - маленькая революция.
- И всё это сделано, в сущности, энергией и талантом одного человека. Сколько над ним смеялись, когда он начал своё дело! Острили на ту тему, что в стране ещё нет простого ремесла, а он едет туда насаждать сразу художественное ремесло. Положительно, на почве Палестины оправдывается поговорка, давно потерявшая кредит в остальном мире: смелым Бог владеет. Двадцать лет тому назад несколько молодых учителей задумали малое лёгкое дело: возродить библейский язык в качестве школьного и разговорного. Над ними смеялись, и теперь в Палестине даже улица говорит по-древнееврейски, даже вывески лавок, афиши синематографа, повестки и расписки иностранных почтовых учреждений, даже годовые балансы юдофобского немецкого банка составляются на этом языке. Лет пять тому, три молодых доктора философии решили пойти дальше и создать в Яффе "еврейскую гимназию". У них было около 15 учеников обоего пола, никаких денег и много отваги. А теперь сионист Мозер, городской голова Бретфорда в Англии, выстроил для гимназии прекрасное здание, с физическим кабинетом и гимнастическим залом; в этом году открывается уже 7-ой класс (кроме того, при гимназии есть три приготовительных), число учеников и учениц свыше 250, создаются учебники, формируются учителя... - Но удивительнее всего - "Бецалель".
- Когда думаешь обо всём этом, становится завидно. Мы тут, в диаспоре, ведём какую-то "национальную" работу, сеем что-то с таким расчётом, что из ста семян выйдет авось один чахлый росток, а из ста ростков девяносто девять будут растоптаны чужими сапожищами. Все места заняты, все щели заполнены чужою культурой, негде развернуться собственному творчеству, негде разгуляться инициативе. А там, в Палестине, что посеешь, то посеяно, что замыслишь, то уж только от твоего умения будет зависеть; десятки рук бережно подхватят всякое начатое дело, и на дикой, запущенной почве всякий побег иначе, не по-здешнему развивается и не по-здешнему красивые приносит цветы и плоды. Свои цветы, свои плоды...
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment