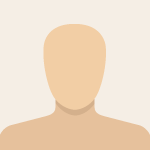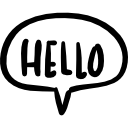Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Тело мое парализовано и приковано к больничной постели; в пустых бутылках и банках, оставленных соседом на подоконнике, гостили последние осколки дня, оттеняя батарею, стреляя по глазам, — последним выходом из безвыходного выступал сон. Всегда ли так было? О, нет; я засыпал, параллельно гасли солнечные зайчики по ту сторону век, обещая уже зазеркальные лучи по сю, где весь мир повторялся, но все же имел неуловимое отличие ощущений, как иногда ты не можешь признать себя в зеркальной копии, все же не понимая, что не так; наконец забываешься, просыпаешься и понимаешь: “Я уже не тот, что вчера.”
- Я проснулся на голубой оттоманке под молочным покрывалом, шевеля пальцами ног из-под него и толкнув большим стакан лимонада на тумбочке, поймал в лимонный зонтик толстый солнечный луч из щели штор и превратил в золото сложной системой желтых жил. У изголовья лежала книга на круглом столике: листы пошли волнами от моего взгляда; порхнула персиковая занавеска на открытом балконе, лимонный солнцеотвод в стакане скользнул полукругом, и злаковый луч захватил стекло — ударил в глаза.
- Помню, все помню: и лето и зной, в котором вся густота листвы за прозрачностью окна обратилась всем составом куп в сплошной солнечный блеск; и паучонка с жиденькой паутинкой у ясного квадрата открытой форточки, на обратной стороне которой с дубравным дуновением зашелестело солнечное полотно, замелькало, местами теряя свет, местами возвращаясь в зелень, — дуновением, но казавшимся особо сильным в жарком полуденном затишье, догнавшим уж наверняка какую-нибудь хозяйку пузатого мопса, что разлегся в тени под лавочкой на мочковатом корне ясенелистного клёна и стал тянуть к себе носом упавший подле одуванчик, из которого хозяйка со скуки вязала венок на ромашковом платье и выдумывала пятнадцатилетнего подростка, выдумывающего всякое, — помню, все помню, когда я, ребенок, отрок, юноша ли, а то и вовсе старик, — уж точно не скажу, — ребенком воображал себя стариком, а стариком — молодым. Чувство времени, желание его остановить было со мной, возможно, с самой первой минуты, и как никогда ощущаю, что взбухало во мне час от часу, чтобы лопнуть именно сейчас.
- Сколько мне лет? Тут вынужден остановить (как часто встречался этот оборот, и как смешно видеть его гостем в нашем двадцать первом веке, но уж не могу подобрать уместнее) перо и наконец обратиться напрямую, дабы напомнить, что не забыл про тебя, и до сих пор лелею надежду встречи, пусть как раз ты про меня не помнишь и не вспомнишь того сердобольного отрока, что всегда был рядом с тобой, но все же не вместе, выступая лишь образчиком твоего идеала. Пускай тебе покажутся высокомерными такие слова, сказанные от первого лица, сказанные мной, который, казалось, тебя и не знал вовсе, на самом же деле ведал о тебе больше, чем кто-либо. Так сколько лет? Неважно, как неважно, увидел ли я тень от облака на пробегающей через дорогу собаке во сне, и во сне ли впервые родил выражение лица мужчины с дрожащими очками на носу, что вкупе с клетчатой рубашкой придавало ему выражение чего-то стереотипного, когда тот проезжал на машине и чуть было это собаку не сбил, а та вдруг прошмыгнула через свежевыкрашенный забор с отпечатком какого-то малыша, и была такова.
- И сейчас, когда память только и делает, что вытягивает тени и придает им густоты, понимаю, что все что был я — коллекция впечатлений, надетая на некоего добавочного меня, который всегда был со мной рядом, шел рука об руку и догонял меня же в отражении зеркала, а все же мной не являлся.
- Кто он, этот добавочный я? Ему было тридцать, когда стоял в коридоре полупустой больницы (за стенами повторяется лето прошлого воспоминания и умножает светлую в полумраке (окон не оказалось в отрезке коридора) прохладу), а врач пытался (зачеркнуто) объяснить:
- — Я скажу откровенно: все, что мы можем сделать, так это только отсрочить…
- А я встревал прямо посередине, говорил, что не может так, топал, крутился, пущенный в полет волчком с раскинутыми врозь руками, (пока я смиренно стоял), кивал и говорил:
- — Понятно. То есть, я совсем ничего, да? (“Совсем ничего не могу поделать с этим, и нет того клея, что может удержать вещество моего существования”, — предстоит расставить в правильном порядке.)
- Они еще говорили о том да сем. Он спрашивал врача, что, может, новые методы лечения, а тот в ответ только мотал головой и отвечал, что не хочет давать ложных надежд. (И как хочется, чтобы тогда я сказал: “Но вы не понимаете, доктор! Мне все равно, что будет с моим телом, только дайте шанс моей голове, ведь слова, мой язык, мои мысли — это все, что у меня есть! Прибегнем к традиционной метафоре, но мир, — как часто проскакивала подобная метафора уж много где, — это ткань, которую я… вяжу, и я… и… мы…”. “— Довольно”, — ответил он и поднял руку, чтобы тремя пальцами выкрутить между нами лампочку и повергнуть коридор во мрак.)
- И как жаль становится почему-то, что то был, конечно, не я. Я заморгал от густой темноты. Я в коридоре? Нет: проснулся вязнущим в пододеяльной ночи.
- Ты скажешь, нет, ты точно скажешь, что я, конечно же, брежу. Вот, вспомнить хотя бы школу. Мы в ней учились.
- Та стояла за по прежнему синим забором (с тех самых пор, когда к нему подошел и оставил на свежей краске копию ладоней), одетым в деятельно растущий плющ; там и там посреди вспаханной школьниками земли торчали серые пни, — у одного была точно корона из растущей впритык зелени, — а дальше с крыши махнул голубь с тугим звуком крыльев, — махнул над шуршавшими автомобилями, в одном из которых сидел лупоглазый инженер в клетчатой рубашке, — махнул, сел под женщиной, облокотившейся на безнадежно грязный от воробьев подоконник, с безнадежно щетинистым подбородком, над входом в хлебный магазин, из которого вышел полусонный усач с отвисшим мешочком штанов на заду, прогоняющий сон свистом.
- День был не сказать, чтобы сонным, но и не то, чтобы бодрым; не состояла причина в бело-сиреневом небе и бледном солнце, но и не от выпитой бутылки пива бездомный Иван еле поднялся по стене на ноги и шепеляво поплелся по двору, а тень, проснувшаяся с ним под деревом, под деревом и осталась.
- Ты стояла рядом, ты видела все вот так. Я пошел через дорогу домой, поднялся по седым ступеням, прошел в дом, мимо засевших по углам теней, оттоманки, к спальне, лег на кровать; замаячило на исподе век яркое и теплое.
- Как это просто: поставить твой ромашковый силуэт рядом с собой у забора, обратить голову в мою сторону, нет, даже, куда-то в сторону, наверное, будто ты меня и вовсе не замечаешь, а там, потом, проходит кто-то мимо, и ты вдруг оживаешь, и вот, потом, больше.
- В любом случае, пусть даже, может, я еще жив, и способен стоять на ногах, и не встретил я тебя, а только цедил образ в воспоминаниях и снах, — ты и вовсе меня в глаза не видела, — я убежден, что наступит все это: и тридцать лет, и силуэт, и больничная койка, и чтобы ты непременно сжимала бы мне руку, и та ты, собранная мной из случайностей, вдруг стала бы явью.
- Всегда ли так будет? О, нет. Но пока способен мыслить, то буду твоим соглядатаем и доведу до конца твою и мою жизнь по той тропе, которую сам же протопчу.
Add Comment
Please, Sign In to add comment